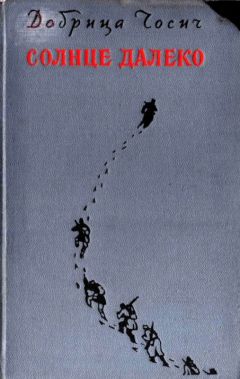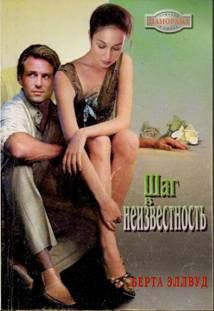Добрица Чосич - Время смерти
Меня изумляет великодушие победителей, которое выказывают мои солдаты по отношению к пленным. Унижения пленных мне пока не доводилось видеть. Все проявляют какую-то удивительную серьезность, которая лишь, изредка напоминает оскорбленность. И это после четырех месяцев войны и тех бесчинств, которые творили ныне побежденные в наших селах. Очень это важно!
Я раскаиваюсь в тех недостойных осуждениях, которые выражал своим боевым братьям. Убеждаюсь: проще всего говорить о людях плохо.
Сегодня мне грустно оттого, что небо облачное и темное и я не могу увидеть ни одной звезды.
*
Мы побеждаем. Какова истина! Не все последующие поколения ее поймут.
*
Сегодня мы буквально сбились с ног, преследуя неприятеля. Заночевали в селе у подножия Сувобора.
Алекса Дачич где-то украл курицу, то есть освободил ее, как он утверждает, изжарил, раздобыл пирог и отличной ракии и пригласил нас с Саввой на ужин.
Как я наслаждался! Мама, если б ты знала, какая радость — хороший ужин после победоносного боя!
Когда людям не страшно и они не голодны, им легче быть добрыми.
*
Наконец спокойная ночь. Я спал в сене, незабываемо. Как летом в лугах, в этом невиданном Прерове. В детстве и юности отца. Я хочу, чтобы запах сена был запахом моей родины.
Туман…
У края загона разорвался снаряд. Алекса вздрогнул, перестал читать, но встал не сразу. Удивленный и взволнованный исповедью Ивана, он чуть не пропустил начало боя. Что было в голове у несчастного парня! И что заставляло его это записывать, для кого он писал?
Алекса аккуратно сунул тетрадку в карман и не торопясь пошел искать своих: его полк, отразив контратаку, переходил в наступление.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Кроме айвы и букетика сухих желтых цветов, полученных от заплаканной, в черном платке, красивой девушки, которая вместе с другими женщинами и детьми встретила их при вступлении в город, ничто не обрадовало Адама Катича в Валеве.
Сопровождаемый взволнованным пареньком-гимназистом, он облазил все помещения неприятельских штабов и дома высших офицеров, осмотрел трофейный обоз, табуны больных и раненых лошадей вдоль дороги на Шабац и нигде не нашел Драгана. Тогда он решил самовольно, бросив эскадрон, двинуть по следам полков, гнавших остатки корпусов Потиорека к Дрине и Саве. Найдет Драгана — не обидно будет попасть под военный суд; а не найдет, все равно, пусть считают его дезертиром. На всякий случай он избегал встреч с сербскими офицерами, а рядовым и штатским, которые попадались по пути и которых он расспрашивал о передвижении неприятельской конницы, он представлялся связным из штаба Моравской дивизии, везущим почту для командира Дунайской дивизии.
После Валева до Каменницы веселого было мало, хотя он шел по следам вражеского поражения и отступления: пленные своим видом и обмундированием куда больше походили на победителей, чем сопровождавшие их конвоиры, в селах слезы и траур, дома без окон и дверей, пустые овины и амбары, все сжег и разграбил оккупант, загажены колодцы, корчмы и школы если не пострадали от огня, забиты ранеными обеих армий, смрад, некому перевязать, люди умирают, понося на чем свет стоит императоров и королей. По дороге не пройти из-за перевернутых обозных телег, патронных и снарядных ящиков, трупов лошадей и солдат; в канавах тела убитых женщин, стариков, детей. Но если он не мог радоваться разгрому неприятельской армии, то и оставленные ею следы не вызывали у него ужаса. Проходя мимо убитых и изуродованных штыками крестьян, он не испытывал ни ненависти к убийцам, ни желания мстить; он думал: хорошо, что сейчас зима и снег и мороз очистят землю от следов войны прежде, чем трупы начнут разлагаться. Он жил своей бедой, платил за овес не торгуясь, сколько просили, кормил коня без ощущения измены, ласкал и похлопывал его, уговаривал подольше сохранить силу. Все, что удавалось узнать о вражеской коннице, три дня назад ушедшей на запад, казалось ему зыбким и неубедительным. Никому сейчас не было дела до правды и добра; те, что не хоронят своих покойников, настолько ошарашены, потрясены внезапным освобождением, что в одном разговоре трижды кряду меняют время ухода и направление неприятельского кавалерийского полка, неверным следом которого двигался он от самой Мионицы.
В Осечине женщины, убивающиеся по своим близким, с ненавистью сказали ему:
— Два дня назад к Крупню проехали больно свирепые швабские офицеры на лютых конях. Последнюю муку подобрали в кадках.
В Крупне, в доме, на пороге которого лежала исколотая штыками бабка, два мальчугана продали ему торбу овса и шапку грецких орехов, божились:
— На вороных, что твои драконы, швабские начальники вечером подались к Завлаке.
В Завлаке освобожденные из плена, больные сербские солдаты, полной мерой вкусившие лиха, рассказали, что кровожадный полк германских кавалеристов отступил к Ковиляче, сжигая на своем пути все, что могло гореть.
На рассвете он обошел стороной пылающую Лозницу, с трудом пробился сквозь колонны наступающего сербского пехотного полка и, оставив коня в первом попавшемся хлеву, пошел по обезображенной и разграбленной Ковиляче, расспрашивая о вражеских кавалеристах горожан, которые, захлебываясь от слез, хлебом, ракией, яблоками и черносливом встречали сербское войско. Пожилые люди сказали, будто швабы погнали к Зворнику пять сотен связанных между собой коней.
— Ровно пять сотен?
— А что ж! Пять сотен, сынок! Мы с внуком пятьсот и насчитали.
Он не мог этому поверить и шел от стариков к ребятишкам, от старух к девчонкам, спрашивая об одном и том же. А они, словно сговорившись, толковали: пять сотен связанных между собой коней погнали сегодня утром к Зворнику. Вдаль уходила черная дорога, от канонады дрожали стекла.
— А где ж всадники, куда ж целый полк солдат подевался? — спрашивал он у заплаканных, обрадованных избавлением горожан.
На это ответить не мог никто. Вспоминали, что лошади были под седлами, однако гораздо больше только с уздой и поводьями.
Деваться некуда. Он должен идти за ними к Зворнику.
2Воевода Мишич со своим штабом рано утром въезжал в Валево. Он ехал быстрой рысью с колонной штабных, стараясь не глядеть на неубранные трупы солдат и лошадей в вымоинах мощеной улицы; старался не считать дома с черными флагами на стрехах, с сорванными дверями и разбитыми окнами, обгоревшими и разваленными оградами; заставлял себя не видеть неприятельских раненых, расположившихся прямо на тротуарах, пристроив голову на порожках домов, откуда выглядывали подмастерья и старухи.
Из горожан его приветствовали лишь те, кто знал его в лицо и хотел приветствовать. Он прятал глаза от взглядов, уставившись в голову коня, раскачивавшуюся в такт шагам. В Валеве, подступали воспоминания, он, будучи командиром дивизии, провел самую беззаботную и самую приятную часть своей жизни; здесь он был счастлив с Луизой и со своими детьми, пользовался непререкаемым авторитетом у офицеров, чтимый и уважаемый горожанами. А когда уезжал, получив назначение в Генеральный штаб помощником Путника, его провожал весь город, все валевские экипажи. Он слышал свое имя, возгласы «Слава!» и не поднимал головы, думал только о том своем незаслуженно триумфальном отъезде из Валева. Как легко и приятно принимать незаслуженное признание!
Словно от кого-то спасаясь, он торопливо вошел в здание Окружного суда, где месяц назад размещалось Верховное командование. Идя по грязному коридору, припоминал то тяжкое и необычное совещание Верховного командования и правительства, на котором воевода Путник задыхался, тщетно пытаясь обрести спокойствие. Пашич, как в карточной игре, двойкой собрал все взятки, а Вукашин Катич, высказывая, скорее всего, самое разумное, поставил крест на своей политической карьере. Мишич задержался перед дверью в зал заседаний: что-то неодолимо влекло его войти. Попросив адъютанта приготовить ему и хорошо протопить комнату, вошел в зал: пол был усыпан осколками оконного стекла, хлопьями сожженной и клочками рваной бумаги, пустыми бутылками и патронными лентами, вдоль стен — солома, на которой явно спали солдаты; на судейском подиуме — человеческие испражнения. Прислонившись к косяку, он думал о генерал-фельдцегмейстере Оскаре Потиореке, Вене, Европе, западной культуре. Вышел поспешно, чего-то устыдившись, но довольный. Приказал привести пленных, чтобы они вычистили и привели зал в порядок, прохаживался по коридору, ожидая, пока приготовят комнату; в жизни он, вероятно, способен причинить немало зла, но никогда бы не смог стать оккупантом. Лучше быть рабом, чем стать оккупантом.