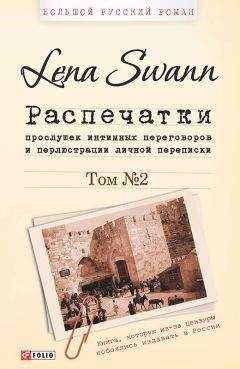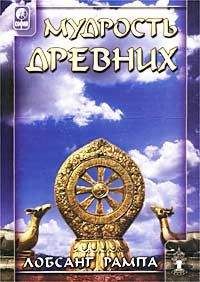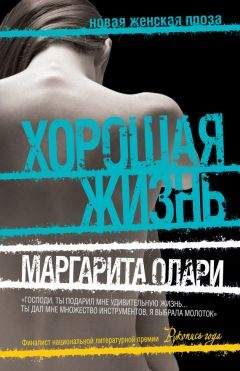Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1
В узком, черном еще, перешейке между центральным алтарем и дальними приделами крошечная старенькая матушка Елена в фиолетовой косынке, подтягиваясь на мысках, вычищала сморщенным пальчиком круглый, чересчур высокий для нее медно отблескивавший столик для свечей — молитвенно, словно и забыв о прикладной цели чистки — водя пальцем между зажженными кем-то уже свечами — словно пчелка, собирающая мед; и розоватый отблеск свечей застревал в ее морщинах, так что лицо уж светилось само по себе, как на картинах Караваджо.
У Взыскания погибших уже целиком полыхали взлетные огни — и поражали белизной лилии, неизвестно с каких небес нападавшие в вазу у подножья иконы среди зимы.
Удивительные звуки и отблески Божьего улья.
Полутона переходили в сверкание верхнего света, шепоты — в многоголосую сдержанную радостность набившегося вокруг народа.
Когда священник возглашал в алтаре «Благословенно Царство», и диакон, воздевая сверкающий парчовый орарь как ангелово крыло, сочным баритоном воспевал на амвоне ектенью — до мурашек явственно чувствовалось, что высшее предназначение человека — это петь Богу.
Важно было, когда впервые открывались царские врата, оказаться прямо напротив — в узком центральном коридорчике — оттуда лазурный заалтарный образ казался совсем живым.
Сразу после этого Елена как-то неизменно оказывалась оттесненной на собственное, именное уже практически, местечко — второе с краю от коридорчика — на левой банкетке, напротив алтаря, и всегда заново ощупывала витую решеточку снизу, по грани банкетки, за которой жарко пряталась батарейка центрального отопления.
Слева, в толпе, как всегда невдалеке, но как всегда на дистанции, появлялась Татьяна — точнее, появлялась сначала ее милая лучистая губошлепская улыбка, ее мягко уложенные распушённые длинные волосы, разлетавшиеся из-под теплого платка — сама же Татьяна, за улыбкой, тут же поворачивалась к алтарю, сосредоточившись на молитве.
Справа, в правом крыле перед алтарем косолапо топтался, сложив ручки замочком, угрюмо-радостный Влахернский — свято соблюдая несуществующую уже — но записавшуюся где-то в церковной памяти традицию: мужчинам молиться справа, женщинам — слева. «Сегрегация почти как в синагоге», — с улыбкой подумала Елена, когда Татьяна им впервые об этом рассказала.
Татьяна, молясь, кажется, сама того не замечая — чуть покачивалась — как будто чуть взлетая, чуть подвзбрасывая себя на мысках сапожек; а когда иерей возглашал: «Мир всем!» — Татьяна чуть заметно складывала ладошки — словно зримо зачерпывая горсточкой благословение. И всегда, чуть поклонившись, неслышно, одними губами, отвечала: «И духови твоему».
По коридорчику в веселой панике протискивалась между толпой чернявая еврейская красавица с тяжелой косой — припозднившаяся певчая, лет девятнадцати, про которую Татьяна шепотом говорила, что учится она в консерватории — и дальше, делая вид, что не видит строгих взглядов регентши — накидывая беленькую косынку — бежала, вся светясь улыбкой, крупно крестясь на ходу, к хору на правый клирос.
Записанные и накрепко запечатанные воском века́ — казалось бы убитые, уничтоженные, истертые из памяти изувеченной популяции — теперь нежно распаковывались, распечатывались, вслед за расплавляемым парафином свечей — и, читая лично ей адресованное послание, Бог знает сколько здесь хранившееся, Елена обнаруживала, что все эти старинные буквы, обретавшие воплощение в жестах, символах, звуках — живые.
Особым визуальным наслаждением было видеть детей — нарядно одетых — и на удивление не-по-советски счастливых и раскованных, ближе к концу службы выкатывавшихся изо всех уголков церкви и рассаживавшихся на приступках-ступеньках слева перед алтарем, рядом с бордовой ковровой дорожкой — уютно играющие и хохочущие под иконами ангелы, которых никто не одергивал и никто не прогонял.
Немного не хватало тех тайных вечерей, на которых первые христиане преломляли хлеб по домам в простоте сердца, радости, и братской любви — вечерей, о которых говорилось в деяниях апостолов и в письмах Павла — и которые Елена все время с такой визуальной яркостью держала во внутреннем воображении во время богослужений. И слушая ненавязчивые рассказы Татьяны об общинах первых христиан, Елена, опять же внутренним взором следуя за яркими образами веселой, любящей ранней братвы, преображенной прямой исторической близостью и несомненностью Воскресения Христова, — изумлялась, как же это непосредственный жар веры, и любви, и христианского братского общения превратился в ритуал — хоть и поразительно красивый — красивее, чем что-либо в материальном мире — возносивший в горнюю Державу. И когда после богослужений все, вместо того чтобы продолжить агапу — расходились по домам, зная лишь двоих — троих друзей в храме, — не оставаясь ни на совместную трапезу, ни на дружеские разговоры, как древняя братва — казалось, что происходит что-то не вполне естественное: как будто обрывают фразу на полуслове.
Впрочем, даже незнакомые люди, с которыми молились рядом — чувствовались как собственная рука, или шея. И однажды, когда в булочной между Пушкинской и Маяковской Елена, позарившись на булку, встретила в толкучке бородатого высокого молодого человека из церкви, всегда стоявшего в правой части храма перед алтарем (у которого еще был брат, очень на него похожий, но не близнец — в церковь ходивший каждое воскресенье тоже — но стоявший всегда почему-то — для равновесия спасательной шхуны, видимо — в совершенно другом от брата конце храма) — и Елена и бородатый соучастник богослужений чуть поклонились друг другу — хотя никогда до этого не перемолвились в храме ни словом — казалось, что вся хмурая, кислая, продрогшая Москва вдруг озарилась неземным, высеченным этим кратким молчаливым приветствием, сиянием.
— Вам необычайно, Лена, повезло с вашей святой… — чуть приглушая улыбку говорила Татьяна, поправляя на плече громадную сумку (Бог весть чем набитую — тетради? Хоругви?) — покачиваясь в самом центре вагона метро между Еленой и Влахернским и пересиливая, нажимом голоса, тоннельный шум. — …Царица, обрела крест… Житие, безусловно, славное — но без мученичества… Редкий пример христианской святой в святцах без мученической кончины! Знаете, на именины ведь христианину принято желать подражания своему святому, имя которого носишь. Но учитывая, что моя святая — мученица Татьяна, мне этого желать никто не решается…
В школе, куда Елена заходила теперь с удивительным, от всего освобождающим ощущением «я вообще-то здесь пролётом» — явным продолжением благодати в сердце вдруг сверкнула жалость даже и к безобразной скандалистке Ленор Виссарионовне. Завидев в коридоре на четвертом белокурый шиньон алгебраички, Елена подумала: «Кто знает? Отчего у нее эта злоба, эти ревнивые завистливые припадки крикливости, и распущенность, и придирки ко всем, и желание каждого ученика унизить, и маниакальное желание молодиться и кокетничать в предпенсионном возрасте? Может, ей муж изменяет, или какое горе пережила в жизни… В конечном-то счете, все ее отвратительное поведение объясняется простым словом: она — несчастна. Счастливый, самодостаточный человек себя так вести не будет. Ее можно только пожалеть из-за этого уродства души…» Рассудив так, на уроки к истеричной каверзнице Елена, впрочем, все-таки ходить впредь поостереглась: чтобы не искушать Бога и не спугнуть благость жалости, возникшей к моральной калеке на расстоянии. Жертв ее ора все-таки было жальче гораздо больше, чем ее.
— Поздравляю… — бесстрастным, чуть сонным, но подчеркнуто вежливым и дружелюбным тоном проговорила Анюта, когда Елена на переменке рассказала ей о крещении.
С веселеньким Дьюрькой говорить о чем-то серьезным, как Елена и предполагала, оказалось затеей абсолютно бессмысленной: залился хихиканьем, да покраснел пуще свеклы.
Раз, в воскресенье, во время пышной службы в церкви, Елене, взглянувшей на облачение священников, подумалось вдруг: а нужно ли, не грешно ли все это внешнее великолепие? И в тот же миг как будто ангел какой-то направил ее взгляд на церковный половик: бордовую ковровую дорожку с бордюрчиками с обеих сторон и витиеватыми цветками — до слёз аккуратно от руки залатанную крупными тряпичными заплатками в двух местах. А в другой раз, на утренней службе — когда как будто вся церковь еще не проснулась — стояли все хмурые — и хмуростью этой как будто заражали друг друга и самою службу — Елене, толкаемой со всех сторон и пытающейся проникнуть через забитый коридорчик поближе к алтарю, и от этих недружественных каких-то толчков почувствовавшей было горечь, добрый ангел вдруг присоветовал поднять глаза кверху: и с удивительной персональной доверительностью Спаситель на крошечной иконке на арочной перемычке над коридором сообщил: «Азъ есмь с вами!» — и все мелочи разом отступили, и вспыхнуло, заполыхало в сердце живое счастье — глядь — а и справа и слева зажглись, засветились, от той же вспышки, молитвенные лица — и впереди люди стали приветливо оборачиваться к ней и улыбаться — и священник воспел вдруг вдохновеннейшее: мир всем! И отныне Елена на каждой службе точно знала: Христос выполняет Свое обещание — вот Он, здесь, где-то между нами, где двое или трое собрались во Имя Его. И всегда пыталась увидеть Христа в церкви — и вдруг представляла себя, как изумится сейчас понурая, постная (в не лучшем смысле слова) часть молящихся, если несомненно присутствующий Христос станет для них вдруг в эту минуту зрим — и заливалась улыбкой от реальности догадок.