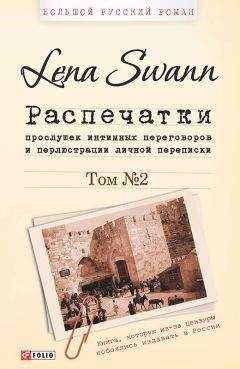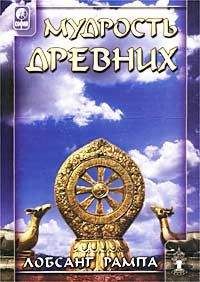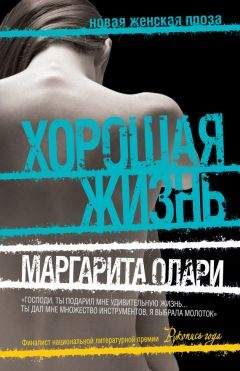Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1
Но и все остальные Евангелия — крылья которых так легко вспархивали с ладони — были исполнены внутреннего свечения. Удивительная, вдруг случившаяся корректировка зрения заставляла выхватывать то и дело фразы Христа — пронзавшие сердце гениальностью: как можно было с более гениальной научной метафоричностью доказать бессмертие души, личностное бессмертие людей — чем напомнив, что Бог назвал Себя «Бог Авраама, Исаака и Иакова»! Бог же не есть Бог мертвых, но живых! У Бога все живы! Гениальнее формулы придумать было невозможно! Всюду, всюду на метафорах Христа светилась, сияла роспись Гения. И вот она, истинная, Божественная мужественность: зная, что очень скоро Его ждет чудовищная мученическая смерть, рассуждать о красоте лилий.
— Это ты, что ж, теперь ходить в этой рубахе собираешься?! — Анастасия Савельевна, Бог весть из какого театра вернувшаяся, стояла в дверях ее комнаты и с бережным ужасом разворачивала и рассматривала крестильную рубашку, которую Елена оставила в пакете при входе. — Она ж до полу!
И Елена, оторвавшись от чтения, только сейчас заметила, что за окном — сверкающая ночь.
— Нет, мам, ходить в ней нельзя, — серьезно уведомила Анастасию Савельевну Елена, с нежностью взглянув еще раз на белоснежные махрянящиеся манжеты. — Батюшка Антоний сказал, что в следующий раз ее можно будет надеть, когда только хоронить меня будут. На вход в жизнь — и на выход из жизни.
— Безумная! — разоралась мать, в ужасе, как обжегшись, бросив рубашку и ретируясь в свою комнату. — Кто в шестнадцать лет о смерти думает!
И остро разнесся по всей комнате божественный запах мира от рубахи. Которого Анастасия Савельевна, к удивлению Елены, даже не почувствовала.
В субботу вечером в церкви Елена, не успевая дивиться зрительным и прочим метаморфозам, происходящим с ней, и тому, что Евангельские тексты теперь наполнены внутренней подсветкой, — с еще большим изумлением увидела, что и Илья Влахернский весь сияет — прямо красавец! — весь светится! — сияние исходило даже от его, прежде лохматых, мочальных волос — и даже вся его одежда словно исполнилась новыми красками! В восторге, Елена приписала было все эти чудесные перемены в облике Влахернского фокусу, произошедшему с ее собственным зрением после крещения — однако, присмотревшись повнимательнее, поняла, что это просто Влахернский в кои-то веки волосы вымыл и свитер выстирал.
— А вот если бы мы жили во времена первых христиан — то вам бы, Лена, пришлось ждать крещения и ходить в катехуменах как минимум год, а то и два-три, а то и больше, — плавным голосом рассказывала Татьяна, что когда они, вместе с Влахернским, шли, часов в одиннадцать вечера, к метро, после исповеди.
Мороз грохнул так скоро после оттепели, так молниеносно температура рухнула с плюсовой до минус двадцати пяти, — что на Моссовете, с верхнего портика над третьим этажом, жестикулировали огромные, метровые сосульки — застывшие, в невиданных позах — поправ всякое земное притяжение, не вертикально, не вниз, а прямо на лету, на ветру, в экспрессивном движении — в бок — явным взмахом куда-то на восток.
— Какая вы молодец, Лена, что заметили… — почему-то растрогалась Татьяна. — А мы идем зачем-то под ноги смотрим!
Не заметить было, впрочем, трудно. Как трудно было почему-то, с подступившими слезами, не почувствовать странную внутреннюю связь этих застывших в кричащей немой мимике ледяных скульптур — с исчезнувшим из жизни, но все никак не уходящим из памяти Склепом — первым вестником Великого Царя в ее жизни: как будто это был именно Склепов прощальный взмах, как будто это были Склеповы руки, со всей выразительностью напоследок указывающие на восток — как тычет в небо Иоанн Креститель, на знаменитой картинке. И невозможно было, конечно же, не чувствовать сейчас, до слёз, не проливаемых только из нежелания, чтобы они заледеневали на лету и стукались оземь с хрустальным звоном, — что, ведь, и Татьяна, согласившись отвести ее в церковь, успела, успела-таки свершить свой маленький крестный подвиг в богоборческой стране — крестный по сути, но, к счастью, не по последствиям — и лишь чудом уцелела, не оказалась вышвырнутой с работы, лишенной возможности преподавать. Уцелела исключительно благодаря тому, что Господь успел крутануть стрелки вперед быстрее, чем успел клацнуть челюстью пустивший уже было на нее слюни дьявольский партийный и гэбэшный аппарат. Чтоб хоть кто-то из праведников дожил до рассвета.
— Крещение в первых христианских общинах вообще совершали только на Пасху! — невозмутимо продолжала Татьяна, чуть вытягивая губы — так, словно пыталась жарко надышать узор на невидимое стекло — и мягко жестикулировала, словно бы пальцами выводила буквы: выдувала — и потом дарила эту совершенную, в блестящем инее, незримую воздушную Рождественскую игрушку. — Так что вам, Лена, пришлось бы ждать как минимум до первого воскресенья после первого полнолуния после весеннего равноденствия.
— А как же Савл, апостол Павел, то есть… Крестился, и не ждал ничего! — недоумевал Влахернский. — И не было же никакого приготовления, достаточно было веры в Христа и покаяния! И тот, другой — не помню кто он там был? — в деяниях апостолов! — который, уверовав, закричал: так вот же вода — что мне мешает креститься немедленно! Веруешь — значит можно и должно креститься немедленно, ничего не откладывая!
Татьяна загадочно улыбалась, радуясь живой его реакции:
— Ну да, некоторых так до сих пор и крестят — экстренно, боясь что человек не доживет, если крещение откладывать — крестят немедленно же, «страха смертного ради». И даже по сокращенному чину — только исповедание веры и раскаяние! Знаете, в древних руководствах к крещению, сказано, что если нужно кого-то срочно крестить, а нет под рукой воды — то можно крестить даже и песком или землей — потому что там микроскопические частички воды всегда есть! Более того — если рядом нет священника — то в экстремальных условиях может крестить уверовавшего даже и мирянин, да даже и женщина! Так в советских лагерях многие тайно приняли крещение! После тысяча девятьсот семнадцатого года ведь для христиан опять вернулись времена жесточайших гонений, хуже чем при Диоклетиане: уж не до соблюдения формальных обрядов, если ты в тюрьме или в смертельной опасности. Веруешь в Христа — крестись прямо сейчас — потому что не известно, не убьют ли тебя через час. А в Гулаге, в лагерях на лесозаготовках, под страхом смерти, некоторые, знаете, как причищались? Клюкву и морошку тайком в кружке давили и, помолившись, соком причащались. Никакого вина ведь не было! Конечно, вы правы, Илья — вера в Христа и раскаяние — это самое главное. Все остальные обряды возникли уже потом, в начале все было предельно просто! Вера в Христа и покаяние, готовность изменить жизнь — это единственное, что имеет значение. А между прочим, друзья мои! Вы знаете, что у первых христиан не было тайной исповеди?! Если кто-то совершал грех — то выходил на середину, перед всеми — и вслух каялся, называл свои грехи!
— Ужас какой, — угрюмо охнул Влахернский, косолапо скользя и опасливо перебираясь подальше от козырька здания, чтоб не пришибло сосулькой.
— Зато представьте себя, как этот кромешный стыд помогал потом избавляться навсегда от грехов! — подсмеивалась Татьяна. — А вы знаете, что…
Анастасия Савельевна дома, тем временем, действительно словно белены обожралась: не проходило и четверти часа, чтобы она не пыталась вызвать Елену на скандал — причем, чем более мирно Елена на взбесившиеся выкрики Анастасии Савельевны реагировала, тем с большим ошалением Анастасия Савельевна вновь и вновь пыталась ее спровоцировать:
— Ну что ты всё ходишь тут со своей юродивой богомольной улыбочкой, а? Чему ты радуешься?! — с какой-то прямо-таки изумлявшей Елену злобенью кричала вдруг, ни с того ни с сего, Анастасия Савельевна, выбегая из кухни, заслышав, что Елена вошла в дверь.
— Бесы ее крутят, — спокойно и кратко пояснял на исповеди батюшка Антоний, когда Елена ему тихонько жаловалась и спрашивала совета, что делать. — Надо ее в церковь вести. Но не насильно, ни в коем случае. Молитесь, молитесь за нее…
Вообще, стала вдруг Анастасия Савельевна капризной, как дитя — то кричала, скандалила, а то вдруг могла разреветься — то вдруг устраивала какие-то позорнейшие истеричные домашние спектакли. С криками носилась по квартире, вспоминала всю свою «несчастную» жизнь — в которой, по версии спектакля, повинна почему-то оказывалась Елена. И какую-то особенно нелепую и комичную роль в этих Анастасии-Савельевниных истеричных репликах, играл почему-то «веник», к которому, де, Елена «сто лет не притрагивалась» (хотя и сама Анастасия Савельевна, как прекрасно знала Елена, не слишком уже и могла вспомнить, в какой угол она этот веник много месяцев назад зашвырнула, с глаз долой).