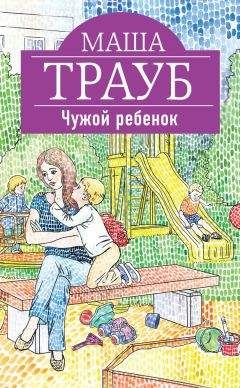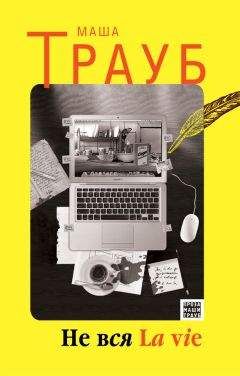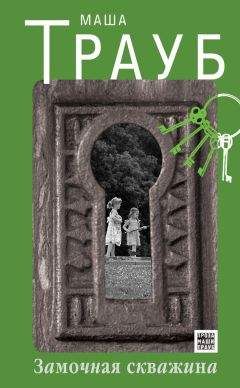Маша Трауб - Я никому ничего не должна
– Я не знаю… – сказала я, хотя уже знала.
Это было на практике. Нам, студентам, нужно было провести показательный урок в школе. Все волновались, тряслись, а я была спокойна. Сама себе удивлялась. Шла на урок, как мама на прием в поликлинику – собранная, готовая всем поставить диагноз и всех вылечить, если уместно такое сравнение: все-таки дети – не пациенты, а школа – не больница, и я не врач. Хотя… с годами я все больше приходила к выводу, что да – педагоги в каком-то смысле слова врачи. Они лечат души, формируют характер, разбираются с проблемами, которые не видны, залезают внутрь, копаются в психике, в подкорке головного мозга, вытаскивают оттуда все плохое и все хорошее. Иногда учителя знают о детях больше, чем родители. Да, такое часто случается. Терпеть не могу такие пафосные сравнения, но так оно и есть.
Так вот, тогда, на практике, я шла по плану урока, не отвлекалась. Дети попались сдержанно-равнодушные. И вдруг, где-то в середине урока, на меня нахлынула волна. Было ощущение, что я выпила вина. Я вся приподнялась, полетела. Слова складывались в предложения сами собой. Как-то стало легко и свободно. У меня появились силы. Нет, не вино – как будто в меня вкололи адреналин или какой-то другой стимулятор жизненной активности. Мне показалось на миг, что за счет этих детей я могу жить.
Сейчас я понимаю, что это была энергетика – детская, самая сильная, самая мощная. Я подзарядилась от них, как от розетки, а тогда решила, что это моя судьба – стоять вот так перед классом и нести разумное, доброе, вечное. Я же говорю, что была наивной, искренней дурой, до идиотизма правильной.
После этого все мои мысли о переводе в медицинский вуз, которые, как правильно угадал Михаил Ильич, посещали меня и на втором и на третьем курсах, когда я хотела бросить институт, улетучились. Ради этого ощущения – полета, власти, уверенности, что все в моих руках и только от меня зависит, какими вырастут эти дети, что будет твориться в их головах, – я готова была стать учительницей.
– А почему вы стали педагогом? – спросила я у Михаила Ильича.
– Откровенность за откровенность. Потому что я не смог уехать, не смог похоронить маму, потому что я одинок.
– Почему вы не уехали?
На самом деле я тогда совсем не понимала, куда должен был уехать Михаил Ильич. Мне казалось, что просто в другой город. Взять билет на поезд и уехать. Родители держали меня в стороне от подобных разговоров и информации. Да и вопрос национальности для меня был неуместным. Для родителей все люди делились на больных и здоровых. Больных нужно было спасать и лечить, а здоровые… они в любой момент могли стать больными. И фамилия, происхождение или вероисповедание были совсем ни при чем. Перед врачом все равны. Как перед смертью.
– Я не уехал, детка, потому что очень люблю музыку. Ты когда-нибудь была в консерватории?
– Да, с мамой, давно, – поморщилась я, вспоминая мучительный поход «слушать музыку».
– Я тоже начинал ходить с мамой, а теперь хожу один. Уже пятьдесят лет. Почти каждый день я слушаю музыку.
– Почему вы не похоронили маму? – как во сне спросила я.
– Она мне запретила. Она считала, что ребенку не место на кладбище. Мне было уже за сорок, а она считала меня ребенком и хотела оградить от переживаний. Оградила… – Михаил Ильич опять засмеялся, закашлялся и вытер слезы. – Запретила в завещании. А я, дурак, не смог нарушить ее волю. Теперь вот жалею.
– Вы не смогли приехать в другой город?
– Детка, это была другая страна. Мама эмигрировала, я должен был ехать за ней и не уехал, потому что здесь были концерты, потому что я был молод и думал, что все еще успею. Вот, не успел.
– А почему вы один? – опять, как полоумная, спросила я.
– Это, детка, уже совсем личное. Давай в следующий раз.
– А правда, что, для того чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить детей? – спросила я.
– Я не знаю. Кого считать хорошим педагогом и что значит любить? Очень размытые понятия, ты не находишь?
Мы ходили с Михаилом Ильичом в консерваторию. И во время учебы и после, когда я уже работала в школе. На страницах моего диплома, который я храню, на полях, рукой учителя были написаны не замечания, а расписание ближайших концертов. Потом он мне звонил и говорил всегда одну и ту же кодовую фразу:
– Детка, у нас сегодня свидание.
Это означало, что мы идем на концерт. Свидание назначал не Михаил Ильич, а музыка.
Михаил Ильич излечил меня от любви. Когда я рассталась с Андреем, вычеркнула его из своей жизни, то не знала, как не сойти с ума, Михаил Ильич сказал мне фразу, которую я запомнила на всю жизнь:
– Слушай музыку, детка. Хорошую музыку. Только она позволит тебе забыться.
Шопен, Малер, Бетховен… Каждый день, как антибиотик, как лекарство. Внутривенно.
У меня ведь до сих пор на антресолях лежат пластинки Михаила Ильича – старые, пыльные, никому уже, даже мне, не нужные. А он их собирал по всем магазинам – редкие записи концертов, знаменитые исполнители. Некоторые пластинки – совсем заезженные, стертые иглой, вытертые тряпочкой до дыр. Он мне их завещал, как самое ценное. Специально оговорил и заверил у нотариуса: «Пластинки отдать детке».
Я не была на его похоронах. Надеюсь, он меня простил.
В последние годы жизни Михаила Ильича наши с ним свидания становились все реже и реже. Откровенно говоря, мы почти не виделись. Я закрутилась в школе, в собственной жизни. Сначала звонила ему достаточно регулярно, потом раз в месяц, раз в два месяца. Все обещала себе, что завтра будет поспокойнее день и я обязательно позвоню.
– Детка, – радовался он в трубку, – ну, и где ты вчера была?
Это означало, что я пропустила очередной концерт, не пошла в консерваторию.
– Не могла, работа, – отвечала я, но Михаил Ильич меня даже не слушал.
– А ты знаешь, какой завтра день? – спрашивал он.
– Пятница, – отвечала я.
И это был неправильный ответ на вопрос. Завтра должен был кто-то играть. И я обязана была ЭТО услышать.
– Наверное, билетов не будет, – иногда оправдывалась я.
Михаил Ильич фыркал в трубку. Он не понимал, как я могу не достать билета. Какая ерунда! Надо брать, умолять, доставать любой ценой на любое место и висеть на люстре, стоять в проходе, сидеть на ступенечке, но слушать. Услышать.
Потом мне уже было стыдно звонить. Я не хотела его расстраивать тем, что не была, не слышала, пропустила. Думала, что успею, что еще есть время, что Михаил Ильич будет жить вечно и никуда из моей жизни не денется.
Однажды вечером мне позвонила женщина. Незнакомый голос.
– Кто это? – грозно и требовательно спросила она.
– А кто вам нужен? – так же требовательно спросила я в ответ, поражаясь такой наглости.