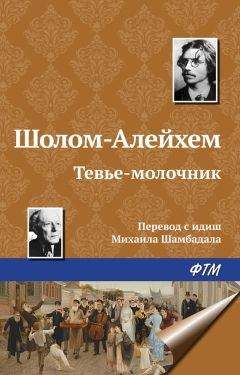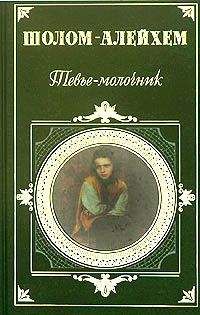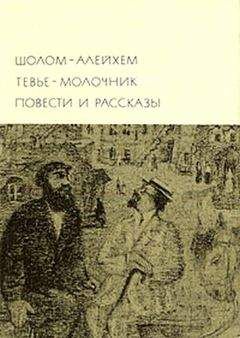Робер Бобер - Что слышно насчет войны?
— Если когда-нибудь возьмешься ставить пьесу, — говорил Кинман, — дай каждому актеру роль, которой он не ожидает, не запирай его в тесные рамки одного амплуа, тогда он начнет наблюдать, придумывать, изображать и с удивлением увидит, если он действительно стоящий актер, как много разного заложено в человеке.
Я вспомнил об этих словах после разговора с мсье Альбером в тот день, когда, придя утром на работу, заметил, что мадам Полетта слишком часто сморкается и, как мне показалось, тайком вытирает слезы. Первый раз я видел ее плачущей, и это было так невероятно, что, улучив момент, я спросил у мсье Альбера, что с ней такое.
— Запасы слез — единственное, что никогда не иссякает, — ответил мсье Альбер и рассказал мне историю мадам Полетты:
— Я знаю ее еще с довоенной поры. Мы работали в одном ателье, а платили в то время не так, как сейчас. Вернее, мастеру хозяин, как и сегодня, платил сдельно, но только за окончательно сшитую вещь, с отделкой и подкладкой, а при каждом портном была своя помощница, которой он отдавал часть денег. Мадам Полетта была одновременно отделочницей и женой одного мастера, и тот целый день все понукал ее, чтоб она от него не отставала: «Давай, Пола, давай!» (По-настоящему ее зовут Пола.) Пожалуй, кроме этого «давай, Пола, давай!», она от него ничего и не слышала. Если она шла в туалет, мы все откладывали на минуточку работу и приговаривали хором: «Давай, Пола, давай!» Наконец они скопили денег и открыли собственное дело. Но не ателье, а лавочку на улице не то Пасси, не то Помп, не помню хорошенько, но где-то в том квартале. А вывеску повесили такую: «Отутюжим за минутку». С тех пор Пола и стала называться мадам Полеттой — ей так больше нравилось. Место бойкое, клиентов хоть отбавляй, и поначалу все шло хорошо. Забегали даже актеры — им частенько требовалось в последнюю минуту погладить вечерний костюм. Кого она мне называла? Кажется, Пьера Ришара Вильма, Жоржа Грея… причем они не брезговали заявляться самолично.
Вот так и получилось, что Полетта, сидя за кассой и принимая клиентов, каждый день встречалась в своей собственной лавочке с людьми, чьи портреты мы обычно видим в журналах. Очень скоро у нее появилась мания величия, она вообразила, что, раз с ней говорят такие знаменитости, значит, она и впрямь теперь важная дама и может стать на них похожей, а то и сама прославится не меньше.
Но с мужем ее было неладно: он сидел в задней комнате и чувствовал себя примерно так же, как когда-то, покинув родное местечко. Иногда, для поднятия духа, заглядывал к нам в мастерскую. Но условия работы у нас не изменились, каждый мастер в паре со своей помощницей старался сшить за день как можно больше изделий. Тратить время на разговоры было некогда. Тогда он зачастил в кафе позади площади Тампль, где день-деньской сидели евреи-картежники. Там говорили на идише, обсуждали положение в мире, которое становилось все хуже и хуже, и муж Полетты снова чувствовал себя как дома. Вот только на улице Помп впору было менять вывеску: вместо «Отутюжим за минутку» — «Отутюжим за денек» (да и то не всегда). И хотя муж-гуляка прилежно гладил по вечерам, стараясь наверстать упущенное, звезды захаживали к ним все реже. Говорят, мадам Полетту это приводило в отчаяние куда больше, чем то, что сократился заработок.
— И что стало с ее мужем? Его отправили в лагерь?
— Нет-нет. Просто, когда семейная жизнь стала расклеиваться, он решил начать все с нуля и уехал в Аргентину. А жене сказал, что напишет и вызовет ее к себе.
— Но, думаю, не написал.
— Я тоже так думаю. Хотя кто знает? Так или иначе, началась война. А мадам Полетта к тому времени продала дело и снова нанялась в ателье.
— И перестала общаться со звездами?
— Ну да. Но она действительно была со многими знакома, пусть и не так уж близко.
— Так почему ж она не скажет, как было дело? Ведь кажется, что все сплошное хвастовство!
— Иной раз, бывает, и прихвастнет. Пойми, ведь это было единственное время, когда она чувствовала себя кем-то значительным. Да она и не может ничего объяснить, иначе пришлось бы рассказывать все: про «давай, Пола, давай», мужа-картежника, Аргентину и прочее. И вообще, она, я думаю, уже и сама не помнит, кто заходил к ней в лавочку, а кто нет. А поскольку она все время читает журналы, ей кажется, что она и сейчас знает всех знаменитостей.
Когда мсье Альбер мне это рассказал и особенно когда я увидел, как мадам Полетта утирает слезы, я решил оставить ее в покое, пусть себе тешится своими фантазиями; но вот однажды, не помню уж, по какому поводу, она мне говорит, что, раз я так люблю критиковать, мне надо бы работать критикером в какой-нибудь газете. А я ей терпеливо отвечаю:
— Не критикером, а критиком, мадам Полетта. И кроме того, критик не обязательно ругает, а иногда и хвалит. Тогда так и говорят: «Критики хвалят пьесу и декорации», — или что там еще. Но откуда у меня время, чтобы еще и в газеты писать. Хватит с меня того, что я гладильщик и актер.
— Хи-хи-хи!
Ну всё! Опять она со своим «хи-хи-хи»!
Еврей в придачу к оплеухе еще и врага получает
(Еврейская пословица)
Если вам никогда не приходилось строчить на машинке по «тедди-биру», считайте, что вам повезло.
Тедди-бир похож на мех, но не имеет с мехом ничего общего. Достаточно увидеть, как его волоски разлетаются из-под иголки во все стороны, чтобы понять, что меховщики могут не опасаться конкуренции.
— Что это за ткань? — спросила Жаклина, когда мы начали шить первую вещь. — У меня полный нос ворсинок!
— Так это, значит, ткань? — съязвил Леон, а последнее слово выговорил чуть ли не по буквам.
— Тедди-бир этой зимой в моде, — только и сказал мсье Альбер.
Ответ исчерпывающий — против моды не попрешь. А так как мертвый сезон непременно наступит в свой час, придется всю зиму дышать ошметками от тедди-бира.
— Откуда такое название? Английское? — снова спросила Жаклина.
— Оно пошло от Теодора Рузвельта, — ответил Шарль.
Жаклина вытаращила глаза:
— Американского президента?
— Да, но другого, его двоюродного брата.
— Это он придумал такую ткань?
Тут даже Шарль улыбнулся. Чем хороша Жаклина, так это тем, что над ее словами можно смеяться со спокойной душой — она никогда не подумает, что вы издеваетесь. Да на этот раз и не было причины: не только Жаклина, а и все остальные не понимали, какая тут связь с Рузвельтом.
— Нет, это не он придумал тедди-бир, — сказал Шарль, — но Тедди — уменьшительное от Теодора, а поскольку Рузвельт любил охоту на медведя, его и прозвали Тедди-Бир. Бир — это по-английски «медведь».
Шарль каждый раз потрясал всю мастерскую своими познаниями. Всеобщее восхищение выражалось обычно во взглядах и уважительном молчании. Вот и сейчас воцарилось молчание. Пока его не прервала мадам Полетта.
— Ну да, — сказала она, — я это знала.
Леон уже готов был отставить утюг и возразить ей.
Заветной мечтой его было хоть раз вынудить мадам Полетту признаться во лжи при всем честном народе. Но как докажешь, знала она что-то или не знала? — должно быть, подумал он и, вместо того чтобы ввязываться в бесполезный спор, стал утюжить дальше. Однако на лице у него было написано, что мадам Полетта своей репликой испортила ему все удовольствие от рассказа Шарля.
Так я к чему веду — из-за этого тедди-бира мы с Шарлем садимся теперь за машинки с утра пораньше, когда никто еще не пришел.
Шарль, как я говорил, редко принимает участие в общих разговорах. Но вот так по утрам у нас иной раз завязывается беседа.
Недавно прихожу я в мастерскую, а там уже Леон. Ждет, пока разогреется утюг, и обсуждает с Шарлем статью, которая появилась во «ФранТирёре». Леон эту газету покупает каждое утро, и на гладильном столе лежал развернутый последний номер.
Речь шла о приговоре трем журналистам из «Же-сюи-парту».[35] Суд над ними шел целую неделю, и журналист «Фран-Тирёра» считал несправедливым, что двоих из них приговорили к смерти только за то, что они что-то писали, тогда как многие старшие офицеры отделались более мягким наказанием. Леон склонялся к тому же мнению, а Шарль был не согласен.
— Перья бывают преступнее, чем ружья, — говорил он. — Конечно, офицер или полицейский, который арестовывал и убивал евреев и бойцов Сопротивления, виновен, его надо посадить в тюрьму, и тогда он уже не будет опасен. Но такие журналисты виновны еще больше и еще больше опасны. Это из-за их статей многие пошли в нацистскую полицию. Это из-за того, что они писали: «Смерть евреям!», были схвачены тысячи человек. Ты видел, чтобы кто-нибудь протестовал? Думаешь, нашлось бы среди французов столько охотников выдавать евреев, если б они не читали этих газет? Лично я ничуть не пожалел, что Бразийака казнили.[36] Не пожалею и Ребате, когда его тоже расстреляют в Монруже. Потому что их идеи — страшный яд. И он будет отравлять общество даже после их смерти.[37]