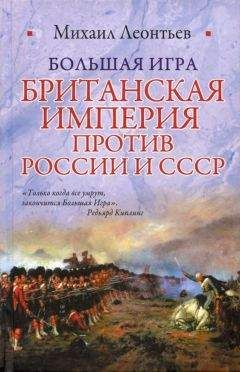Пер Петтерсон - В Сибирь!
Едва мы поравнялись с гостиницей у пристани, я вырвалась, и отец один побрел вверх по Лодсгате доложиться матери, которая наверняка ждет у окна. Лавка сегодня закрыта, с верфи разъезжаются на велосипедах рабочие в синих робах. Отец просто позвал пройтись, и я согласилась, потому что давно уже не слышала его голоса так, чтобы его не перекрывали другие в тесноте нашей квартиры.
У Шкипергате я останавливаюсь и гляжу назад: мой отец стоит, опустив руки по швам, с потухшей сигарой во рту. И не может решить, куда податься. У него вид бедняка, бездетного, неприсмотренного старика, одинокого как перст, и я думаю, что надо бы вернуться, подойти к нему, сказать, что мне все равно, что это все яйца выеденного не стоит. Хотя это ложь.
Немецкий корабль загораживают портовые краны, я вижу также, что нет никакого льда ни в гавани, ни на море, но с того места, где я стою, не видно разрыва мола. Только две длинные-предлинные руки тянутся одна с юга, другая с севера и сцепляются в замок, опоясывая наш город кольцом и никого не выпуская.
Отец долго стоит внизу. И я стою и смотрю на него. Он знает, что я тут, но не идет в мою сторону. Мы ждем друг друга. В конце концов, он снова раскуривает сигару и медленно уходит вдоль отеля и вверх по Хавнегате в противоположную от дома сторону. Может, зайдет в рюмочную или в одно из тех заведений на Сёндергате, где он теперь пристрастился играть в бильярд. С тех пор, как мы переехали из северной части города к порту, в "Вечернюю звезду" он больше не наведывается. Тогда я тоже разворачиваюсь и почти бегу по Лодсгате. Еще издали я вижу у окна мать; она стоит и следит за улицей, как я и думала, но я не поднимаю на нее глаз, а только беру во дворе велосипед и уезжаю прежде, чем она успевает сбежать вниз.
Я еду по Розевей прочь из города, к мореходке. У забора отец Лоне подстригает живую изгородь. Я смотрю прямо перед собой и норовлю проскочить мимо так, чтоб он меня не заметил, но нет, он оборачивается и кричит:
— Вечер добрый, барышня! До осени!
Раньше он был директором начальной школы, а теперь стал ректором гимназии и, конечно, уверен, как и все кругом, что я-то уж непременно буду там учиться. Мои отметки были напечатаны в газете — так принято чествовать лучшего выпускника; Еспер самолично набрал текст. Он взял мое имя и отметки в рамку, которая сразу бросается в глаза, стоит открыть газету на второй странице. Меня это страшно смутило, я три дня не выходила из дому. Еспер говорит, что на сегодня это его самая лучшая работа, он собирался набрать все готическим шрифтом, чтобы подчеркнуть важность сообщения, да не оказалось некоторых букв, потому что немцы их совсем затерли. Теперь мне кажется, что сообщение выглядело как некролог.
Лонин отец остался теперь отцом одного Ханса, и непонятно, с чего вдруг он заговорил со мной, если несколько лет меня как будто не существовало. Наверно, у него не так много приятелей. Ведь он вступил в Датскую национал-социалистическую рабочую партию, а там, говорит Еспер, собрались те еще рабочие:
— Граф Бент Хольстейн, граф Кнут Кнутхенборг, граф Ратлоу и егерь Его Королевского величества Сехестед, это я называю только самых неутомимых тружеников.
Они даже и не датчане, а иноземная зараза, проникшая к нам с юга, как ящур. Он прошелся по многим хозяйствам. Во Врангбэке порезали всех коров, и бабушке пришлось продать усадьбу и сдаться в дом для престарелых в Себю: теперь сидит там день-деньской на стуле и поносит дурными словами каждого, кто рискнет к ней приблизиться.
Так что от Врангбэка мы отделались навсегда, о чем никто не печалится, кроме матери, которая знай талдычит:
— Вот ведь! Нет бы нам дом отдать!
Все это уже прошлое, мы больше не наяриваем наши велосипеды в ту сторону, но по ночам я люблю проскакать на Люцифере по длинной дорожке через китайский садик за домом. Он разросся в настоящий лес с упирающимися в небо деревьями, и в нем одновременно и солнце, и луна. Подковы впечатываются в деревянный настил; я потная, горячая, а ветер обдувает грудь, и Люцифер ходуном ходит у меня меж ног, вот; и я свожу бедра, вытягиваюсь вперед и намертво вцепляюсь в гриву, чтоб не грохнуться.
Правда, китайский садик давно сровняли с землей и превратили в гравийный карьер, чтобы втридорога продавать немцам песок и щебенку, которых им нужно тьму-тьмущую, чтобы строить бункеры, противотанковые рвы и заграждения Южной батареи рядом с Унерстед. Но это все не играет никакой роли для отца Лоне, которому нравится чужая страна, не наша, поэтому я кричу ему, проезжая мимо:
— Wir sehen uns niemals, herr Oberhauptbahnhof, — и думаю: "Ага, получил?!" Но никакой радости от этого я не испытываю, куда лучше было бы увидеться с ним осенью в гимназии, а теперь, когда я оглядываюсь, на дороге маячит с садовым секатором в руках грустный коллаборационист, который поддерживает немцев за их научный подход к жизни и видит муравьиную потенцию в людском сообществе.
Марианна живет в кирпичном доме в том месте, где начинаются за городом крестьянские хутора, сюда едут мимо богатеев за белыми заборчиками, мимо мореходки и через насквозь продуваемый ветрами пустырь за Северной Страндвей. Если смотреть по карте, старая хижина Еспера в двух шагах отсюда, но, чтобы попасть в нее, надо отклониться вдоль Эллингова ручья в противоположную от моря сторону до моста на Скагенсвей, а потом тащиться по проселочной дороге через все поле по ту сторону моста. С хижиной это было здорово. До такого мало кто додумается.
У Лоне в доме был клавесин, у меня — таперское пианино, а у Марианны — губная гармошка. У нее четверо бешеных младших братьев, мать-покойница и отец-телеговожатый. Это он так представляется: телеговожатый Ларсен. Всю зиму он колесит по пляжам и вылавливает топляк, рубит деревья, сломанные осенними штормами, а по темноте иной раз наведывается в Ваннверкский лес за сухостоем, а это уже не то чтоб законно. Все это он рубит, режет и раскладывает штабелями по всему двору сохнуть и вонять так, что душа вон. По осени этот товар он сбывает мешками и вязанками в городе, где большинство каминов топятся углем, а теперь, из-за торгового бойкота Англии — торфом. Не самый доходный промысел.
Сначала у него была лошадь с телегой, потом — маленький грузовичок, который стоял в конюшне, а теперь вот снова лошадь, потому что бензин по карточкам. Лошадь делит конюшню с грузовиком. Тот бок машины, в который дует соленый ветер с моря, проржавел, а в другой колотит копытом лошадь, когда ей становится тесно. Так я и помню этот двор: воняет преющее на солнце дерево, в конюшне беснуется лошадь и вдруг с грохотом лягает кузов подкованным копытом. Коня зовут Иеппе по той причине, что он вечно рад промочить горло, а ни его, ни машину не забирают из стойла потому, что телеговожатый Ларсен, слава богу, понимает своего коня и считает, что у того есть полное право лягаться.
— Живность он любит, этого не отнять, — говорит Марианна и замолкает.
Когда ей было тринадцать и умерла мать, Марианне пришлось занять ее место и доказать всем, что ей это по силам, а то бы вмешалась опека, отняла мальчишек и растасовала их по всей округе, как чернобурок. Так говорят, поскольку для крестьянского двора сироты — такой же приварок, что и разведение лис.
У Марианны есть сигареты и пиво. Я одалживаю у нее купальник, и мы едем на пляж севернее Фруденстранд. Немецкие солдаты сколотили там из бревен мостки, которые выдаются дальше третьей береговой отмели, на глубину. Мы устраиваемся на берегу за дюной, попыхиваем тонкими сигаретками, которые Марианна раздобыла неведомо где, потягиваем "Туборг" и смотрим, как солдаты ныряют, как плавают. Они поглядывают на нас, пробегая мимо, и трудно хоть чуточку не пококетничать. Они ведут себя, как мальчишки в летнем лагере. К тому же без формы они кажутся менее опасными. Я улыбаюсь им, хотя я их ненавижу.
Я тушу сигарету о песок и отхлебываю большой глоток пива. Оно теплое и неприятное.
— Чего петушатся-то? — спрашивает Марианна.
— Вот пошлют их в Норвегию. Там будет не до смеха.
Пробегающий мимо высокий светловолосый парень улыбается и машет рукой, но на сегодня я уже наулыбалась.
— Прямо обидно. У этого солдатика потрясающие бедра, — сокрушается Марианна и машет рукой.
— Прекрати! Это наши противники, будь они неладны.
— Да помню я. Но ведь какой красавчик! И наверняка в Германии его ждет молодая женушка. Сидит себе в гостиной, слушает по радио Сару Линдер и вяжет теплые носки, а в животе поспевает белесый младенчик. А папу зачем-то переводят к бешеным норвежцам, так что носки могут и опоздать. Бедняга.
Марианна явно пытается загладить собственную глупость, но меня все равно бросает в бешенство. Однако сейчас Марианна моя лучшая подружка, поэтому я ограничиваюсь коротким замечанием:
— Как только война кончится, я отсюда уеду.