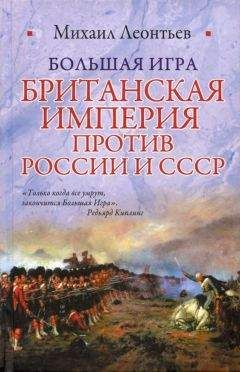Пер Петтерсон - В Сибирь!
Я сразу увидела пять поверженных тел на той линии, где мы с Хельгой должны были упасть друг другу в объятия; линия была полностью скрыта телами, и ручейки крови стекали сверху вниз, в обе страны, а стрелял, не исключено, Вальтер.
— Так мы вступили в войну?
— В войну? Да в этой стране никто не собирается воевать! Ты слышала Стаунинга по радио? Ведите себя как обычно! Этих пятерых пристрелили для острастки. Это было намеренное убийство. А мы извольте вести себя как ни в чем не бывало.
— А откуда ты все это узнал?
— Я работаю в газете. И у нас есть телефон, черт побери.
Войдя в ворота нашего дома на Лодсгате, мы не пошли наверх, а взяли из стойки в глубине двора свои велосипеды, выехали на улицу и стали мелкими улочками пробираться на южную окраину города странным зигзагообразным маршрутом, потому что в конце каждого квартала мы подъезжали к главной улице изучить обстановку, но немецкой колонны по — прежнему не было. После аллеи Мёллехус нам пришлось выбраться на большую дорогу на Себю, потому что больше нигде нельзя было проехать из-за льда и снежных заносов, перекрывавших дороги. Та весна выдалась холодной; я, совершенно беззащитная на велосипеде против холода снизу и ветра спереди, успела продрогнуть до мозга костей, пока мы в полном одиночестве миновали Бангсбустранд, а за ним прямо впереди легло холодное, серое море, и не было никого между нами и тем, что приближалось.
Перед самым Унерстед, на полпути из города в Себю, Еспер затормозил, слез с велосипеда, присел на корточки и стал вслушиваться. Я последовала его примеру. И мы услышали будущее. Оно надвигалось разлитым в холоде слабым гулом, неумолчно нараставшим и не имевшим обратного хода. Еспер выпрямился, его била дрожь, он обнял себя за плечи, поежился, потирая их, и посмотрел на море. Круча, отвесно обрывавшаяся вниз, щерилась зазубринами льда по краям, и Еспер перевел взгляд в другую сторону: там к Унерстеду тянулись пологие холмы. За ними едва виднелись красные крыши низких домов, а школу Ванген вообще закрывали деревья. Туда в свое время ходил мой отец, пешком, в ученической фуражке и коротких штанишках — из Врангбэка, еще дальше отодвинутого от моря, и обратно. Я много раз проезжала этой дорогой на велосипеде. Приличная даль, но тогда у него еще не сгорбатилась спина.
Через поле петлял припорошенный снегом след от телеги, Еспер показал на него и распорядился:
— Другого пути нет. Лезем наверх здесь. Только быстро!
Ехать было невозможно, пришлось за руль тягать велосипеды вверх весь склон до валуна, где колея обрывалась; у меня сердце колотилось в горле, а впереди дохал Еспер. Наверху высилась куча навоза, едва початая, ее должны были раскидать по полю, как только весна начнется всерьез. Если она наступит. С валуна хорошо была видна дорога в обе стороны и серый силуэт "Педера Скрама" на рейде; он стоял тихо-тихо, а из трубы клубился ажурный, как кружево, дымок — завеса мирного быта на стыке суши и воды. И тут появились немцы.
Сначала два мотоцикла с колясками, из которых торчали только автоматы и каски сжимающих их солдат, потом танк и грузовики с солдатами, сидящими на лавках вдоль бортов лицом друг к другу; потом показались прицепы с пушками, затем две машины с пулеметами на крыше, потом снова грузовики, и бесконечное мелькание касок без лиц, неумолчный гул, задавивший все кругом — так что я даже не слышала, дышу ли я. Может быть, я и не дышала, потому что воздуха не осталось ни для кого, кроме них. Но я расслышала, как всхлипнул Еспер, тоненько и резко, он побелел и тер руками горло, будто отдирая руки душителя. Потом у него из глаз потекли в два ручья слезы. Он вытирал нос и все всхлипывал, всхлипывал, ничего не мог с собой сделать, как маленький ребенок. Я смотрела на колонну, которая раскручивалась внизу, четко и неостановимо катилась к нашему городу, и понимала, что время No pasaran! уже прошло, что именно это увидел Еспер: слишком поздно. И тогда я тоже зарыдала. Я прислонилась к велосипедному сиденью, потому что ноги меня не держали, от гула они начали дрожать, от него ходила ходуном вся земля.
Еспер положил велосипед на землю и стал говорить, сперва тихо, а потом все громче и громче:
— Проклятие! Чертово вонючее проклятие! Адское говно! — Я посмотрела на него: он запускал руки в верхний, подмерзлый слой навоза, вырывал куски дерьма и кидал их, и хотя они лишь немного скатывались вниз по склону, я перепугалась, что солдаты оглянутся, увидят нас и застрелят, потому что мы были полностью на виду, а Еспер вдобавок крикнул:
— Будущее — дерьмо! Такое же говенное говно, как это! — орал он со слезами на глазах. — Слышите меня, свиньи нацистские! Вот вам дерьмеца, угощайтесь! — И он выдернул мерзлый ком и швырнул его далеко, как только мог, но они его не услышали. Ни один шлем не шелохнулся, и все автоматы торчали так же строго вертикально. Тогда Еспер сдался. Он стоял с поднятыми руками, навозная жижа стекла почти до локтя. Он никак не мог отдышаться и все смаргивал, поэтому я сама подошла к нему, несколько шагов всего, и стерла ему грязь со щеки своим носовым платком.
— Бот бы, — помечтала я вслух, — их автомобиль сошел с дороги и исчез! — И не успела я это сказать, как внизу раздался шум. Одна из машин не вписалась в дорогу, задние колеса повисли меж ледяных валунов, и одна скамейка с солдатами вывалилась, а колеса продолжали вхолостую крутиться в воздухе — этот шум мы и услыхали. А потом машина исчезла, перевалившись через зад с кручи на пляж, и из нее с криками повыскакивали солдаты.
Никто, видно, не пострадал, но одно кольцо в цепи разомкнуло.
— Вот это да, сестренка, — выговорил Еспер между двумя глубокими вздохами, — качественно сработано! — И улыбнулся впервые за весь этот день.
11
Два немецких солдата стоят на причале и плачут. Они стоят врозь, по разные стороны трапа военного корабля. Один повернулся лицом к горе Пиккербаккен, другой — к верфи, но видят ли они там что-то, не знаю. Они молоденькие, не старше Еспера, и их перебрасывают в Норвегию. А там война. В Норвегии война, а в Дании все спокойно. И в Дании им было хорошо.
— Тут они масло сливками заедают, — говорит мой отец, имея в виду, что они спокойно заходят в лавку и дуют сливки прямо из ведра. У отца появилась седина в бороде и побелели виски, по-моему, это стильно; он дымит сигаретой, ветер сдувает вонючие клубы мне в глаза — они слезятся. Так что мир я вижу сквозь ту же пелену, что и солдаты; серо-зеленые формы расплываются, меня это раздражает, я крепко зажмуриваюсь и резко открываю глаза: тот, что повернулся к верфи, шевелит губами.
— Что он говорит?
— Mutti — "мама".
— Я бы такого в жизни не сказала! Мне б в голову не пришло так плакать по мамочке, — заявляю я и вытираю глаза рукавом пальто.
— Может, и не сказала бы, а может, и сказала, — отвечает отец. Он только что сообщил мне, что я не буду учиться в гимназии. Для этого мы и вышли пройтись. Я закончила среднюю школу первым номером. У меня "отлично" по всем основным предметам.
— Мы обсудили это, и таково наше решение, — говорит он якобы про них с матерью, но я знаю, что это она постановила. А он не стал с ней спорить.
— Я могу работать по вечерам и выходным. Я выдержу, я сильная.
— Наверняка. Но дело не только в деньгах. К тому же идет война.
— Война? Да в этой стране никто не собирается воевать! — Я поворачиваюсь к одному из солдат и ору:
— В ЭТОЙ СТРАНЕ НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ВОЕВАТЬ!
— Цыц, дура! Ты что? — отец не знает, что ему делать, и зажимает мне рот рукой. От нее пахнет стружкой и полиролью. Я убираю его руку, и он мне не мешает.
— На самом деле так! — Он никак не понимает, что я хочу сказать. Немцы у нас уже два года, а не знают по-датски ни полслова. Единственное их занятие — маршировать, рыть окопы и купаться во Фруденстранд. У меня щекочет в животе, тогда я подхожу к тому, который звал мамочку, и говорю:
— Kommst du von Magdeburg? Heisst du Walter? Ist Helge die Name deiner Schwester? — Он медленно оборачивается, его взгляд полон доброты, у него покраснело под носом, и он вытирает слезы рукавом, как ребенок.
— Не-ет, — говорит он и качает головой.
— Идиот, — роняю я, и это он понимает. Я вижу, как высыхают его слезы. Как он хватается за автомат и как меняется выражение его глаз. Отец вцепляется мне в плечо и тяжело шепчет в ухо:
— Хватит с ума сходить, ясно? Иди тихо! — Он больно сжал мне ключицу, и все время, что мы шли, я физически чувствовала солдата сзади, его руку на ремне автомата, деревянную походку отца, его кряжистое тело. Мне в лицо било солнце, перед глазами плыли круги и растекались мокрые блики, но я не отдергивала руку, а только все моргала, моргала — но это не помогало. Спиной, хотя дело происходило в июне, я ощущала такой холод, будто все море до мола покрылось толстой коркой корявого льда; он снова сковал гавань, и выхода нет.