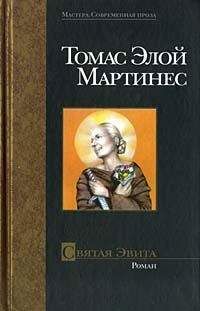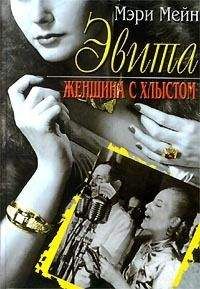Хорхе Семпрун - Подходящий покойник
Он не дал мне договорить:
— Мы тебя выбрали! Потому что ты знаешь его еще с карантина, потому что он знает, да и мы тоже, что у тебя в этом деле нет никакого интереса, никакой корысти. И потом, ты Prominent, на хорошем счету у Зайферта, это мы знаем, тебе можно доверять.
Я мог бы быть польщен, но почему-то не был. Только этого мне не хватало.
А может, Каминский все-таки вытащит меня из этого дерьма — ведь мне придется исчезнуть.
— Что-то мне не хочется влезать в это дерьмо, — ответил я. — Дай мне пару дней на размышление.
— Пара дней — это как?
— Это сорок восемь часов. Сегодня воскресенье, во вторник я тебе отвечу. А пока оставьте его в покое!
Он кивнул.
— Ладно, но мы пока что будем за ним приглядывать. Пусть не пытается перепрятать доллары, мы с него глаз не спустим!
Я думаю, доллары, если они и были — а они должны были быть! — хранились в самом аккордеоне, с которым он не расставался ни в тюрьмах, ни на этапах.
Но это уж не моя забота.
Николай ушел, но тотчас же вернулся.
— Твой профессор больше не открывает глаз!
— Не открывает, — согласился я. — Зато видит. Он ясно видит с закрытыми глазами.
Николай ничего не понял, ну и ладно.
— Зови своего раскольника. Но ему ни слова!
И он растворился в ночи.
— Ты обратил внимание на его фуражку? — спросил Отто через несколько минут.
Мы снова встретились. Пора было идти в Revier.
— Фуражка НКВД! Николай ею очень гордится. Фуражка офицера органов госбезопасности…
— Не меняя фуражки, — прервал меня Отто, — он мог бы сменить статус — вместо того чтобы быть заключенным в нацистском лагере, он мог бы быть охранником в советском!
Повеяло арктическим холодом.
— Что ты хочешь этим сказать, Отто?
— Только то, что сказал, — что в Советском Союзе тоже есть лагеря…
Я попытался возразить:
— Я знаю… Писатели говорили об этом… Горький писал о них в связи со строительством Беломор-канала. Уголовников отправляют в лагерь, чтоб они работали там на благо общества, вместо того чтобы попусту торчать в тюрьмах. Лагеря, где исправляют трудом…
И тут до меня дошло, что только что я произнес роковое слово из нацистского лексикона — Umschulung, исправительно-трудовой лагерь.
Отто улыбнулся:
— Ну да… Umschulung… У диктатур страсть к исправительным лагерям! Но что с тобой спорить, ты же ничего не хочешь слышать. Я могу познакомить тебя с одним русским, замечательный парень. Он как раз настоящий раскольник. Свидетель, но не только Христа… Он расскажет тебе о Сибири.
— Знаю я Сибирь! — огрызнулся я. — Я читал Толстого, Достоевского…
— То была каторга при царском режиме… Мой раскольник расскажет тебе про советскую каторгу!
У меня не было ни минуты — Каминский будет рвать и метать, если я опоздаю.
— Послушай, у меня важная встреча, прямо сейчас, в Revier… Давай в следующее воскресенье!
Отто пошел прочь, подняв воротник куртки, втянув голову в плечи, чтобы хоть как-то защититься от пронизывающего ледяного ветра.
В следующее воскресенье он ждал меня у нар Мориса Хальбвакса.
— Ну? — спросил я. — Когда я увижу твоего раскольника?
Ему было явно не по себе, он старался не встречаться со мной взглядом. Долго мялся и наконец сказал:
— Он не хочет.
Я ждал продолжения, но его все не было. Наконец Отто выпалил:
— Он не будет говорить с коммунистом, — и попытался улыбнуться. — Даже с молодым испанским коммунистом он не хочет разговаривать!
— Что за чушь?
— Ты не захочешь услышать правду. И потом, он боится, что ты расскажешь об этом своим друзьям, немецким коммунистам, у которых тут есть право приговаривать к смерти. Когда он узнал, что ты работаешь в Arbeitsstatistik, то отказался наотрез!
Я слегка растерялся и разозлился.
— И ты не пытался его разубедить? Что ты ему сказал?
Покачав головой, он положил руку мне на плечо:
— Что, скорее всего, ты ему не поверишь. Но будешь держать это при себе, никому не растреплешь.
— Странный свидетель, этот твой раскольник, — попытался отыграться я. — Тот еще храбрец…
— Он знал, что ты это скажешь, — произнес Отто. — И просил передать тебе, что дело не в храбрости, а в том, что совершенно бесполезно разговаривать с человеком, который не хочет слушать и не слышит. Он уверен, что когда-нибудь и для тебя придет время.
Мы молча стояли у нар Мориса Хальбвакса.
Это правда, я не захотел бы услышать раскольника, не смог бы к нему прислушаться. Если уж быть искренним до конца, мне кажется, я даже почувствовал некоторое облегчение, узнав о его отказе. Благодаря его молчанию я остался в уютном покое добровольной глухоты.
Часть вторая
Schön war die Zeit
Da wir uns so geliebt…
Я спотыкался на заснеженной дороге. Может быть, от удивления или от потрясения.
И немудрено.
Голос Зары Леандер неожиданно настиг меня, когда я бежал к рощице, где находился Revier. Он накрыл меня, горячий, волнующий, золотистый; он окутывал меня нежностью, как теплая рука на плече, как теплый шарф из мягкого шелка.
Казалось, она поет только для меня, шепча мне на ухо слова любви: «Счастливое время, когда мы так любили друг друга» — пронизывающая банальность, всеобъемлющая, ностальгическая бессодержательность.
На самом деле это репродукторы, предназначенные для громкой трансляции приказов СС, разносили по всему лагерю теплый голос Зары Леандер. Его было слышно в бараках, в столовых, в каптерках блочных старост и капо, в рабочих кабинетах внутреннего командования, равно как и на плацу. Повсюду, в самых дальних уголках Бухенвальда.
Кроме сортирного барака Малого лагеря, единственного не подключенного к системе репродукторов строения, которого не касались приказы СС.
Наверху, на сторожевой вышке, возвышавшейся над монументальным входом в лагерь, Rapportführer поставил пластинку, и по лагерю разнесся этот громовой голос, который проникал в самые дальние уголки нашего сознания, обращался к нашему одиночеству.
Мои шаги стали тверже, мысли тоже.
Когда этот голос настиг меня — голос, певший только для меня, хотя он разливался над всем холмом Эттерсберг, я был уже на краю рощицы, окружавшей барак санчасти — Revier. Здесь же было огромное помещение, служившее для разных нужд: по необходимости оно было то кинозалом, то комнатой, где собирали заключенных, которых куда-нибудь отправляли — например, на работу или на прививки.
В тот день я спешил в санчасть. У меня было свидание с Каминским — а также с подходящим для меня мертвецом.
— Надеюсь, этот сукин сын унтер поставит нам Зару Леандер, как каждое воскресенье! — воскликнул Себастьян Мангляно.
В столовой сорокового блока продолжалась репетиция. Но мы вдвоем сидели поодаль и смолили бычок махорки. Каждому по затяжке, с точностью до миллиграмма. Не было и речи о том, чтобы смухлевать, ставка была слишком высока. Дружба дружбой, но каждый придирчиво следил за продвижением горящего красного кружка по тонкому цилиндрику сигареты. Не было и речи о том, чтобы позволить другому слишком долгую затяжку.
¡Ay que trabajo me cuesta
Quererte сото te quiero!
В столовой снова звучали строки Лорки, но на этот раз читал их не Мангляно.
Их, впрочем, вообще никто не читал, их пели. Стихотворение Лорки, такое близкое к народной андалузской copla по внутреннему ритму, по скрытой музыкальной фразировке, очень легко было спеть.
Но пел не Мангляно. Пел Пакито, молоденький испанец.
Пакито арестовали на юге Франции, когда немецкая армия прочесывала окрестности. Уж не помню, почему — а может, и вообще не знаю — родители отдали Пакито какому-то дальнему дядюшке или старшему двоюродному брату, который работал в лагере испанских дровосеков в Арьеже. Но этот лагерь служил базой и прикрытием для отряда герильерос, так что нацистские жандармы и армия устроили облаву в том районе.
Так Пакито в шестнадцать лет оказался в Бухенвальде.
Он был грациозным и хрупким юношей. Его определили в Schneiderei, в пошивочную мастерскую, где латали наши шмотки. И где Prominent со средствами (табак, маргарин, спиртное) могли подогнать одежку по мерке.
Спасенный от голода и непосильно тяжелых работ, Пакито прославился, когда мы, испанцы, стали организовывать спектакли. Потому что он играл женские роли. Точнее, женскую роль, единственную роль вечной женщины, Ewigweibliche[31].