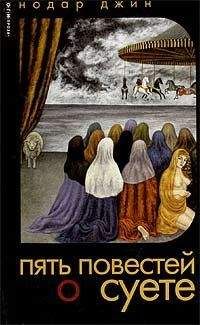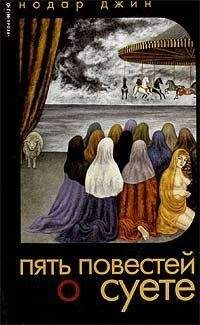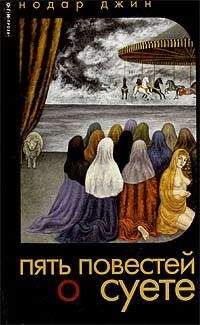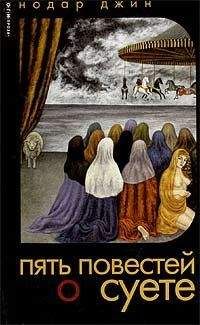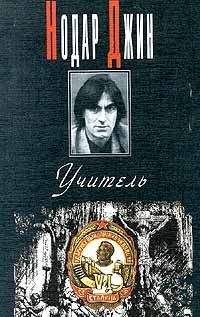Нодар Джин - Повесть о глупости и суете
Пассажиры засуетились.
— Ты, говорит он ей, — и извините меня за это слово, — ты, говорит, сущая блядь, и шутки у тебя блядские!
За исключением меня и Стоуна, все обиделись за грубость на пассажира из самолёта соперничающей компании. В отличие от Стоуна, однако, я рассмеялся.
— И это не всё, — продолжил Бертинелли, — потому что все втроём они выплыли на необитаемый остров. Через месяц грубый пассажир закапризничал и, буркнув, что не в силах больше выносить разврата, застрелил стюардессу!
Пассажиры загудели осуждающе.
— И это не всё! — объявил Бертинелли. — Проходит месяц, и пассажир снова разбушевался: довольно, мол, разврата! И с этими словами, представьте, похоронил стюардессу, не посчитавшись с капитаном.
Пассажиры осуждали уже и меня: я не переставал смеяться.
— И прошёл ещё месяц! — сообщил Бертинелли. — Грубиян стал вопить, что не потерпит разврата и, схватившись за лопату, выкопал из могилы несчастную стюардессу!
Я поправился в кресле, набрал воздуха по самое горло и так громко загоготал, что со стороны могло показаться, будто самолёт трясёт именно из-за этого.
26. Но бежала она в неправильном направлении
Когда воздух в груди весь вышел, я обмяк, откинулся назад, прикрыл глаза и почему-то вспомнил подсмотренную в детстве сцену со слепой овцой. Люди умыкнули у неё только что родившегося ягнёнка — и она в ужасе сорвалась с места и сломя голову побежала за пропавшим ягнёнком. Но бежала она в неправильном направлении. Спотыкаясь о камни и застревая в кустарниках.
Потом я открыл глаза — и увидел над собой Габриелу:
— О!
— О! — вздрогнула и она.
— Долго жить будем! — обрадовался я. — Если двое произносят вместе одно слово, будут жить долго! — объяснил я, но самолёт вдруг опять сильно тряхнуло, и пришлось заключить, что «о» — лишь междометие, а не слово.
От толчка Габриелу сорвало с места, и, споткнувшись о ящик, она сообразила плюхнуться на него задом. Крикнула при этом «Держите меня!» и выбросила мне свою руку. Вцепившись в неё выше локтя и испытав при этом неподобающую случаю радость, я удержал на ящике и весь приданный руке корпус. Габриела благодарно улыбнулась, а потом попыталась вызволить локоть из моих ладоней:
— Что вы здесь один делаете? — и поднялась на ноги.
— Сижу и готовлюсь к концу, — признался я, не отпуская её.
— Я серьёзно: что делаете? Здесь уже нельзя! — и снова дёрнула локтем в моих руках.
— Я же сказал: готовлюсь к концу. А смеялся потому, что представил себя на месте капитана Бертинелли, — и мои ладони соскользнули к её запястью. — Я бы на его месте начал с таких слов: «Дорогие братья и сёстры!»
— Почему? — смешалась Габриела и посмотрела на мои пальцы вокруг своего запястья. — Что имеете в виду?
— В такие моменты… — произнёс я и тоже опустил взгляд на её запястье. — Не знаю как объяснить… Ну, в такие моменты людей спасает только тепло, — и разволновался. — Человеческое тепло…
Габриела перестала вызволять руку:
— В какие моменты? — и поправилась. — Спасает от чего?
— В последние моменты! — пояснил я. — Юмор и тепло. Это спасает всегда, но я вот подумал сейчас, что по-настоящему мы начинаем ощущать жизнь только — когда подходит конец…
Ответить она не успела: самолёт дёрнуло вниз, а её швырнуло в сторону. Я удержал её за талию, развернул к себе и властным движением усадил в своё кресло. Сам присел напротив, на ящик.
— Что вы со мной делаете? — пожаловалась Габриела.
— Как что? — удивился и я. — Усадил вас в кресло. По-моему, уже началось… — и опустил ладони на её колени.
— Что началось? — взглянула она на мои руки.
— Хватит! — буркнул я раздражённо. — Вы и там будете делать вид, что ничего не происходит… Как в этом анекдоте про стриптиз…
— Про стриптиз? — удивилась Габриела.
— Бертинелли рассказывал. Чтобы отвлечь людей… Вы так и поступите: разденетесь и — пока будем падать — будете делать вид, будто всё прекрасно! А если кто-нибудь вывалится из окна и полетит вниз, вы ему бросите вдогонку плед, чтобы не простудился. Да-да! А если вдруг мы с вами там встретимся, вы и там будете притворяться… Да-да, будете!
— О чем вы говорите? Где там?
— Там! — сказал я и кивнул головой на небо.
— Мы идём не туда, — волновалась Габриела, — а наоборот, вниз…
— Ну вот, перестали играть! Но оттуда, — кивнул я вниз, — все мы поднимаемся туда! — и снова мотнул головой вверх.
В полном конфузе Габриела промолчала и, дёрнув коленями, сбросила с них мои руки. Потом, уподобившись вдруг духу, пришибленному тяжестью пышных форм, вскинулась, но, не сумев выпорхнуть из кресла, подалась вперёд, чтобы поставить себя на ноги.
Я не отпрянул — и из третьей, «социальной», зоны, измеряемой дистанцией от трёх до полутора метров, корпус Габриелы по отношению к моему оказался сразу во второй зоне, именуемой в науке «личной» (от полутора метров до сорока шести сантиметров), тогда как наши с ней лица — в первой, «интимной», включающей в себя «сверх-интимную» под-зону. Радиусом в пятнадцать сантиметров.
После краткого замешательства в эту под-зону нас целиком и затянуло — а головы наши, сперва осторожно коснувшись друг друга, сразу же завязли в густом смешавшемся дыхании.
27. Оболванивающая непраздничность бытия
Скорее всего, Габриелу удивило то же самое, что и меня: неподобающая ситуации нежность поцелуя. Он был начисто лишён того терпкого привкуса страха перед близостью восторга, который доступен только странникам.
Я не спеша принялся ласкать её прохладные губы и прислушиваться к растраченному запаху красного мака, переманивавшего меня в не мой, посторонний, мир мягких изгибов и изобилия.
Припав к Габриеле, я наслаждался надёжностью женской плоти, враставшей в мой собственный организм и избавлявшей его от привязанности к себе. Я ощущал сладкое чувство высвобождения из оков, связывавшими меня с самим же собой. Поэтому, вероятно, я и перестал ощущать себя.
Отдельно меня уже не было. Не осталось уже и ничего из того, что недавно было именно и только во мне: ни мысли, ни страха перед следующими мгновениями, ни памяти о предыдущих. Я не обладал уже собою. Перестал осязать даже её, Габриелу. Было лишь состояние растворённости в чём-то безграничном и женском.
Но потом — так же внезапно — поцелуй себя истратил. Перестал быть.
Настала пауза полного бездействия.
Мы с Габриелой открыли глаза и уставились друг на друга.
В её зрачках я разглядел то же самое, что она, должно быть, — в моих: спокойное удивление. Не тронутое ни чувством, ни мыслью.
Когда сошло на нет и удивление, я стал возвращаться в себя, но чувство, недавно потянувшее меня к этой женщине, не возвратилось. В том самом месте, где оно во мне было, растекалась теперь пустота, ибо никакое чувство не способно длиться без желания о нём думать…
Продолжалось зато другое настроение. Завязавшееся во мне сразу же после того, как я приник губами к дыханию Габриелы. Безразличие к предстоявшей катастрофе.
Самолёт, между тем, не только уже не встряхивало — сходило на нет и дрожание.
— Почему это вдруг мы не идём вниз? — возмутился я.
— Как же не идём? — удивилась в ответ Габриела, которая только недавно предстала предо мной духом, а сейчас походила на куклу, пусть и не мёртвую, но никогда ещё живой не бывавшую. — Туда и идём. И скоро садимся…
Прежде, чем проникнуть в смысл услышанного, я обратил внимание, что случившееся между нашими губами Габриелу ничуть не смущало. Бросив уже на меня свой дежурный уверенный взгляд, она нащупала левой рукой в кармашке жилета сиреневую губную помаду со стеклянным наконечником и, дождавшись, пока я заморгал, отвернулась к стеклу, заглянула в него и дежурным же голосом изрекла:
— «У нас только одна жизнь, и фирма „Ореоль“ настаивает, что прожить её надо с сиреневыми губами»!
Никакой разницы между собой и ею я не видел. Либо теперь, либо прежде, либо же и теперь, и прежде, она скрывалась за масками. Пусть даже все они были её собственными. Когда Габриела закончила закрашивать себе стёртые губы и развернулась ко мне, я наконец спросил:
— Говорите — «скоро садимся»?!
— Я и поднялась к вам сюда, чтобы вернуть вас на ваше место… Потому что, правильно, скоро садимся…
— То есть, идём, говорите, на посадку?
— Давно, говорю, идём — и садимся через полчаса… А вам, повторяю, надо идти к себе и пристегнуться, — и она стала выбираться из кресла.
Когда Габриела подалась вперёд, и корпус её снова вернулся во вторую зону, мы обменялись мимолётным взглядом и отпрянули друг от друга.
Выпрямившись на ногах, она — близко от моего лица — стала поправлять юбку на коленях. Как и прежде, до взлёта, они мелко подрагивали в тесных сетчатых чулках. Тогдашнее плотоядное чувство ко мне, однако, не вернулось. Быть может, как раз потому, что я разглядел в ней своё отражение и перестал воспринимать её как нечто чуждое. И тем самым к себе влекущее.