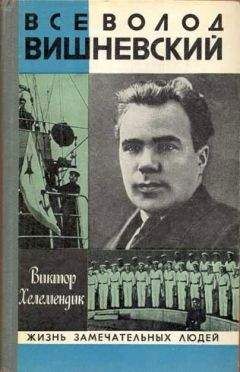Всеволод Бернштейн - Эль-Ниньо
Еще через час бесплодного рысканья по океану мы ошвартовались бортами с другой деревенской лодкой. У тех дела были получше, на дне их лодки в лужице крови лежали два тунца килограмм по пять. Однако этот скромный улов особо никого не радовал. Рыбаки переговаривались на своем птичьем языке. Мне показалось, что они обсуждают меня. Один из них показал на сумку с моими приборами и изобразил, как я макал их в воду. Все сокрушенно покачали головами. Выходило, что я своими измерениями распугал им всю рыбу.
На берег мы вернулись пустыми. В лодке царило молчание, Хосе был мрачен. Моя первая станция в открытом море могла стать и последней, чего никак нельзя было допустить. Поэтому я решил незамедлительно объясниться.
Когда мы вытащили лодку на песок, рыбаки побрели с пустыми корзинами в Деревню, а я окликнул Хосе.
— Но песка, сори! — начал я свою речь. Быстро отдав дань иностранным языкам, перешел на русский. Есть такой способ, обкатанный мной и моими товарищами с «Эклиптики» еще в Панаме — если очень настойчиво и убежденно говорить по-русски, местные жители тебя в конце концов поймут. Какое тут может быть научное объяснение — не знаю, но это срабатывало много раз. Главное, усиленно жестикулировать и время от времени все-таки вставлять какие-то испанские и английские слова, неважно, к месту или нет. — Ты думаешь, это я виноват? — я прижал руки к груди. — Нет! Ноу! Тут дело в другом. Я сейчас объясню. Это такое явление — Эль-Ниньо. Ты должен знать, это же вы его так назвали. Нет рыбы, случается такое раз в восемь лет примерно. Приходит, венире, кам, аррива… Ун моментито! Я поднял валявшуюся под ногами палочку и принялся писать на песке годы Эль-Ниньо: 1983, 1975, 1967, 1959, 1952, 1945, 1937. Все повторял: «Эль-Ниньо. Эль-Ниньо…», и продолжал писать: 1929, 1921… Так увлекся, что даже не заметил, как Хосе нагнулся, передо мной возникла его смуглая рука. Он подчеркнул 1945 год.
Я замер и поднял глаза на Хосе.
— Эль-Ниньо?
— Си, — кивнул Хосе.
Кровь ударила мне в голову. Вот оно!
— Я ученый! — ткнул я себя в грудь. — Я это изучаю. Ун моментито! — я достал из кармана бланк отчета, в который заносил результаты измерений.
— Вот! — я протянул бланк Хосе. — Изучаю Эль-Ниньо!
Хосе взял бумажку, внимательно осмотрел ее с разных сторон, потом вернул обратно.
— Ун моментито! — повторил он мои слова, через плечо произнес короткую фразу Альваро, который дожидался старшего брата в сторонке, тот сразу же припустил в сторону Деревни.
Я продолжал внутренне ликовать. 1945 год! Наверное, это было аномально сильное Эль-Ниньо, раз о нем знает даже подросток полвека спустя. Серьезных научных исследований тогда наверняка не проводилось никаких, тем ценнее получается информация. Если поговорить со стариками из Деревни, они смогут припомнить и другие годы, когда Эль-Ниньо бушевало по-настоящему. А значит, можно будет уже составить статистическую последовательность, вычислить, с какой периодичностью происходит усиление, а это уже первый шаг к возможности прогнозирования. Нужно только поговорить с кем-нибудь из деревенских постарше.
Едва я успел подумать об этом, как на краю обрыва показался Альваро, и не один — на плечо мальчика опирался старик с длинными седыми волосами, развевавшимися по ветру. Постояв немного, старик начал спускаться по тропинке, ступая медленно, но твердо. Он был высок ростом, чувствовалось, что еще крепок. Одет он был в выцветший военный френч.
Спустившись, старик и Альваро остановились в нескольких метрах от нас с Хосе. Я шагнул вперед, чтобы поприветствовать их и пожать руку, но старик сделал предупреждающий жест, чтобы я оставался на месте.
Он вперился в меня слезящимися светлыми глазами. Даже на расстоянии грозный взгляд из-под седых мохнатых бровей производил сильное впечатление. На индейца он был не похож, и на латиноамериканца тоже. Черты лица были скорее североевропейскими, бледная морщинистая кожа, мощный прямой нос. Воцарилось молчание. Я понял — от меня ждут, что я заговорю первым. Мне было несложно.
— Буэнос диас! — начал я.
В ответ мне даже не кивнули. Хосе подошел к старику, шепнул что-то на ухо и показал на вереницу годов, написанную на песке. Цифры мы уже порядочно затоптали, я снова взял палочку и написал крупно: 1945.
Хосе снова зашептал ему на ухо, я понял, что он говорит о бланке с результатами измерений, который был у меня в руках. Я с готовностью протянул листок. Старик не пошевелился, продолжая сверлить меня глазами.
— Мучо импортанто! Очень важно. Сейчас все объясню. Эль-Ниньо… — я принялся чертить на песке оси координат, по одной температура, по другой время. Увидев скрещенные оси, старик вдруг издал громкий каркающий звук, указал на меня длинным пальцем и выкрикнул:
— Манфраваль!
Я опешил.
— Но компрандо!
— Манфра валь! — повторил старик отчетливее. — Манфраваль!
Я всмотрелся в его слезящиеся глаза и понял: он — сумасшедший. В подтверждение моей догадки старик захохотал кашляющим безумным хохотом.
— Манфраваль! — продолжал он выкрикивать. Хосе вцепился в него и пытался успокоить.
— Вы, наверное, меня с кем-то перепутали, — пролепетал я.
Хосе обхватил старика за плечи и с помощью Альваро потащил обратно к тропинке, он то и дело оглядывался на меня с осуждением, словно я был причиной стариковского гнева. Сверху еще долго раздавались выкрики «Манфра валь! Манфра валь!»
Ничего не понимая, я вернулся в Лагерь.
— Поймали что-нибудь? — поинтересовался Шутов.
— Нет, — ответил я.
Новость о том, что рыбы нет и готовить ее не надо, кока только порадовала.
— А про продукты спросил?
— Про какие еще продукты?
— Ну, хлеб там, овощи свежие, молоко. А может, у них пиво есть?
— Нет у них пива, — сказал я.
— Врут, поди, — вздохнул Шутов.
Вечером дети на Пляж не пришли. Уже стемнело, пора было начинать приготовления к сеансу, но никто так и не появился.
— Где же твои зрители? — спросил Дед. Он сразу заподозрил что-то неладное.
— Не знаю, — сказал я, стараясь казаться как можно более беспечным, хотя на душе было неспокойно. — Может, придут еще.
— Выкладывай, что случилось! — потребовал Дед. Его не проведешь.
Я рассказал, что попытался выяснить по поводу Эль-Ниньо, но меня не так поняли. Рассказал про безумного старика и про то, что он без конца выкрикивал: «манфраваль!»
— А что такое «манфраваль»? — строго спросил Дед.
— Понятия не имею, — признался я.
— Ученый, — процедил подошедший Ваня. — Убивать надо таких ученых! Куда ты полез со своими научными разговорами! Спросил про продукты — и все! Они же дикие! А он про феномены рассказывать начал!
— Они не дикие! — возразил я. — Завтра, если опять не придут, сам пойду в Деревню и все объясню. Это же просто недоразумение.
— В Деревню — ни ногой. Это приказ! — отрезал Дед.
— Хана, — вздохнул Ваня. — Не видать нам теперь ни воды, ни продуктов.
— Отставить нытье! — прогремел Дедов бас.
Ваня выругался и ушел в темноту.
Солнце давно село. На небе высыпали звезды. Я подключил аппарат и закрепил экран. Решил, что сеанс состоится в любом случае. В глубине души была надежда, что дети не хотят показываться, а как начнется кино — они придут. Прошли первые кадры. Никто не появился. Я сидел на ящике рядом со стрекочущей кинолебедкой. Между мной и экраном — утоптанный песок, кое-где на нем можно различить следы детских ног. На экране гремели пушки Аустерлица, им вторил Тихий океан. Над головой висел Южный Крест — самая яркая люстра в моем кинозале. Я смотрел, как капитан Тушин раскуривает свою смешную трубку, и думал: почему так со мной всегда происходит? Как только появляется надежда на что-то хорошее и настоящее — тут же все рушится по нелепому недоразумению.
8
По ночам, когда не спалось, или во время подвахт, когда руки работают, а мозги отдыхают, я занимался тем, что сам себе рассказывал разные истории о том, что происходило с нами в этом рейсе. Просто так, чтобы ничего не забыть. Упражнение для тренировки памяти. Так как самому себе рассказывать было неинтересно, я представлял, что рассказываю свои истории девушке, но не Лене, другой. Я сам выдумал себе девушку. Без имени, без фамилии, просто девушку. Поначалу я даже не пытался представить себе, как она выглядит. Потом, просто для удобства, чтобы было на чем зафиксировать взгляд, когда рассказываешь, я решил, что у нее длинные прямые волосы, светло-русые, соломенного цвета. Мне всегда нравились такие волосы. Потом уже как-то сами собой начали добавляться новые детали и подробности. Рот, неяркие губы. Не люблю, когда губы слишком яркие, как у куклы. Слишком пухлыми они тоже не должны быть. Уголки рта всегда чуть приподняты. Такая постоянная готовность к улыбке бывает у добрых и приветливых людей. Уши. Одно, левое, всегда скрыто за волосами. Правое иногда бывает открыто — маленькое и очень аккуратное, к нему хочется наклониться и что-нибудь прошептать. Глаза очень долго не проявлялись. У меня дурацкая манера — я редко смотрю собеседнику в глаза. Только близким людям. Мне пришлось рассказать девушке не один десяток историй, прежде чем понять, что глаза у нее серо-голубые, в зависимости от освещения — иногда чисто серые, иногда чисто голубые. В такие можно долго смотреть и спокойно встречать их внимательный взгляд. Девушке с такими глазами можно рассказывать всю правду. Не нужно ничего приукрашивать, выставлять себя героем. Я знал, что этим серо-голубым глазам я интересен такой, какой есть, со всеми своими бедами и неудачами. Я рассказал ей даже о том, как я струсил.