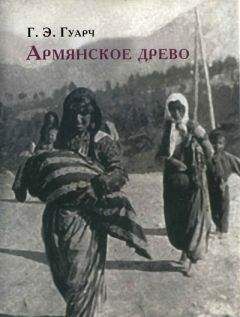Мигель Сихуко - Просвещенные
Луна уже взошла. Каждую ночь он наблюдал с палубы корабля, как она убывает и снова растет, и так пять раз, и теперь она снова полная, такая же, как в тот вечер, когда он покинул Барселону. Воздух здесь был прохладнее, чем в Маниле, где стены и улицы вокруг капитолия как будто удерживали дневное тепло или впитывали жаркие пересуды о революции, которые ему пришлось услышать в частных домах. Дома, в Баколоде, вечер как будто дышал свободнее. А может быть, с улыбкой рассуждал Кристо, я просто поддался ностальгии после долгой разлуки. Он стал раскуривать трубку.
Только после того, как она толком разгорелась, он заметил, что на террасе он не один. В тени дальнего угла, возле большого растения в кадке, три человека с жаром о чем-то шептались. Он думал было вернуться в залу, пока его не заметили, но тени внезапно прервали свое тайное совещание и обернулись на него, сперва один, потом второй, и вот уже все трое весело звали его по имени. Конспираторы слаженно вышли из сумрака, широко улыбаясь, и стали хватать и трясти его за руки, похлопывать по спине с горячими приветствиями и пожеланиями успехов в новом 1895 году. То были его старые, милые сердцу друзья Анисето Лаксон, Хуан Аранета и Мартин Клапаролс, все трое громко гоготали, как смеются мальчишки, когда их застукают за каким-нибудь постыдным занятием.
Криспин Сальвадор. «Просвещенный» (с. 122) * * *Во всякой предопределенности Судьбы заложены сложные коллизии неисследованной природы. Все мы с рождения обречены на неприятности… Свобода, проистекающая из материального благополучия, создает вакуум, Четвертую Жажду, которую необходимо утолять либо поиском приключений, либо тоской, либо неудавшимися попытками чего-то достичь, проблемами или душевными бурями в любом сочетании… Жалеть элиту не за что, но и хулить огульно не следует. Это не соответствует интересам прогрессивно мыслящего гражданина… Поношение по определению ведет к противостоянию и вражде, создает менталитет «мы против них» и ввергает нас всех в баталию, бессмысленную и беспощадную.
Сегодняшние рабы завтра станут тиранами — пролетариат свергает гегемонию, чтобы установить свою гегемонию, которую в конце концов свергнет протогегемония, но и она в свою очередь утратит позиции. По этому головокружительному кругу человечество и гоняется за своим тысячелетия назад утраченным хвостом… Отчуждение элит является внеполитическим эффектом политики и вызвано не только беспокойством имущего, но и таким по-человечески понятным и оправданным чувством плутократов, как обеспокоенность измельчанием человеческой природы.
Из эссе Криспина Сальвадора «Недовольный Сократ» (1976) * * *Поместье Свани, названное так дедушкой и бабушкой Сальвадора, Кристо Сальвадором и Марией-Кларой Лупас, расположено в двенадцати километрах от Баколода, крупнейшего города на острове, разделенном между провинциями Западный Негрос и Восточный Негрос. Плантация поместилась вплотную между местечками Талисай и Силай, на возвышении первого из гряды холмов, ведущей к подножию горы Мандалаган. Из-за непостоянства грунтовых дорог и обилия запряженных буйволами телег и груженных тростником грузовиков трем предшествующим поколениям поместье казалось еще более удаленным от мира, чем сегодня. Пляж располагался в нескольких минутах езды на лошади или велосипеде по тропинке, ведущей прямо от крыльца; для детей семейства Сальвадор этот скалистый изгиб, присыпанный белым песком и омываемый шуршащими волнами, был другим миром. Летом вода была такая чистая, что подводная живность казалась подвешенной в воздухе, — галактики морских ежей, радуги актиний, облака рыб. В сезон дождей текущие с гор и предгорий потоки замутняли морскую воду, и в ней проявлялась некая таинственность, даже предчувствие беды. В месяцы, когда на острове буйствовал хабагат[77], в каждом уголке Свани пахло морем, когда же его сменял всепроникающий амихан[78], он приносил с собой паточный дух с сахарного завода Орно-Мехор.
Свани расположено посреди пяти сахарных плантаций, возделываемых кланом с тех пор, как в январе 1894 года старший Сальвадор по бросовой цене приобрел эти земли у окружного судьи Бернардино де лос Сантос. Все пять плантаций — названные соответственно Свани, Киссими, Мами, Клементин и Сюзанна — были на новый, 1905 год раздарены пятерым его сыновьям; впрочем, когда Сальвадор вырос, две из них уже были проданы родственному клану Лупас. На вершине холма Сальвадор поставил особняк с видом на все пять плантаций. Во дворе дома, на строительство которого пошли брус и доски исключительно из местных кокосовых пальм, стоит старинная, еще испанских времен, башня, в разные эпохи служившая маяком, приходской колокольней, приютом отшельника и снайперским гнездом. Когда Сальвадор был ребенком, башня была частным владением его деда, седовласого патриарха, который набил ее книгами, небесными картами, винтовками, птичьими клетками, блестящими медными телескопами. Оттуда вдовствующий с 1925 года старейшина рода Сальвадоров наблюдал за работой своего сахарного завода, за плантациями своих детей. Прищурившись в окуляр телескопа-рефлектора, он проводил часы, наблюдая за повседневной жизнью и редкими увлечениями каждой семьи, а также рассылая голубиной почтой распоряжения, которых никто не принимал во внимание, и лишенные всяких оснований протесты. Будучи уже почти на смертном одре, Кристо как мог отстаивал свою руководящую роль, заставляя четырех крепких служанок (которых он называл «гробоносительницы») каждый понедельник таскать его на носилках на сахарный завод.
Из готовящейся биографии «Криспин Сальвадор: восемь жизней» (Мигель Сихуко) * * *Если вдуматься, то я нисколько не удивился, когда Криспин попросил меня помочь ему в сборе материала. По ходу дела произошли некоторые сдвиги. Он уже обращался ко мне по-свойски — «паре», как зовут у нас старых приятелей-соотечественников. Иногда он играл с акцентами, извращая мягкое «па-ре» на манер американского матроса в увольнении — «пэи-рии». Такое неформальное обращение стало для меня важной вехой.
В то время мы с Мэдисон серьезно подумывали о переезде в Африку — чтобы строить дома с картеровским «Хабитатом»[79] или устроиться в Корпус мира[80] в Танзании. Это была ее грандиозная затея. Мэдисон была убеждена, что это поможет ей с докторской, которую она собиралась защищать на факультете международных отношений Колумбийского университета; близость к «реальным страданиям», как она говорила, должна была помочь и мне в литературной деятельности. Как будто я не на Филиппинах вырос. Однако это накладывало серьезные обязательства. Я не был уверен в прочности наших отношений, и мне не хотелось взять и бросить все в Нью-Йорке, чтобы через некоторое оказаться где-нибудь к югу от Сахары, где меня сбросят, как балласт, ради какого-нибудь немецкого археолога с большой лопатой, напевающего Вагнера.
Я знал, что Криспин работает над «Пылающими мостами», и хотел помочь. Я мягко намекнул ему, что, если не найду работу, мне придется покинуть Нью-Йорк. Я, конечно, сделал акцент на том, что предпочел бы работать на благо своей страны (Криспин считал, что писать о Филиппинах — значит работать на благо родины). Продемонстрировав нечеловеческое великодушие, он предложил мне работу. Я согласился, несмотря на внезапно закравшиеся подозрения относительно развития наших отношений — денди, друзей нет, с семьей в разладе, заботливый такой, сам бездетный. Никаких явных оснований для беспокойства у меня не было. Но откуда такой интерес? Полагаю, помимо впечатления, которое на меня производили его либеральные взгляды и педантичность, мои опасения свидетельствовали о неуверенности в себе и собственных способностях. Я, конечно, расстроился, когда он даже не подпустил меня к работе над книжкой, сослав на позицию ассистента преподавателя.
Чтобы почетче обозначить границы нашей с Криспином дружбы, я стал чаще рассказывать о Мэдисон. О том, как она расстроилась, что мы никуда не едем; как она вела себя после того, как написала и отправила мейлы, в которых отказывалась от африканских приключений. Час нашего запланированного путешествия к сердцу тьмы[81] настал — и прошел мимо. Ради нее я приготовил дома романтический ужин с индейкой из тофу. Мы ели в тишине. Потом, после просмотра финальной в сезоне серии «Последнего героя»[82], которую я заботливо записал для нее на наш старенький видеомагнитофон, Мэдисон наконец взорвалась. Подобные истории Криспин благосклонно выслушивал, однако советы давать избегал.
В итоге я решил, что в его ко мне отношении больше покровительства, нежели педерастического интереса. Иногда он даже вел себя по-отечески, отчего мне было его по-настоящему жаль. Он был бы хорошим отцом. Ему как будто понятна была моя жажда и стремление к тому смутному и неопределимому, чем я еще не обладал. К тому, что важно по гамбургскому счету. Дуля-то все время твердил о деталях, результатах, признании. Я с удивлением отметил, что в качестве наставника Криспин обладал даже некоторой мягкостью и терпимостью, которые, впрочем, проявлялись, лишь когда он окончательно убеждал себя, что верит в вас. Он проявлял такую доброту, на которую способны только люди невеликодушные и мелочные. По мере нашего сближения мое мнение, следовать которому он по-прежнему не спешил, испрашивалось все чаще. Исполнять для него роль мальчика на побегушках было совсем не сложно, пусть даже он просил меня почистить ботинки или постричь его карликовые деревья, что случалось нередко.