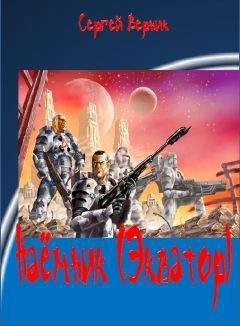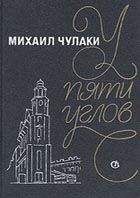Клер Эчерли - Элиза, или Настоящая жизнь
— Митинг по поводу гибели одного молодого парня в Алжире, — объяснил мне Люсьен. — Если бы нас набралось пятьсот…
Нас было тридцать. В ожидании, пока соберется побольше народу, несколько человек спорили о чем–то возле эстрады.
Анна присела на кончик скамьи, я подошла к ней.
— Вам уже приходилось бывать на митингах?
— Да, конечно. А вам нет?
— Брат впервые взял меня. Вы не находите, что Люсьен плохо выглядит? — сказала я, пользуясь тем, что мы были с глазу на глаз.
— Нет, я не заметила.
Она встала. Мой вопрос был ей неприятен. Она усмотрела в нем косвенный упрек, которого я в него не вкладывала. Никто меня не понимал правильно. И эта тоже видела во мне жалостливую сестру. Я позавидовала ее снисходительному презрению к здоровью, отдыху, еде.
Один из мужчин, зажавший в руке несколько листочков бумаги, поднялся на сцену. Не было ни микрофона, ни стола, лампы светили тускло.
— Товарищи, — начал он.
Все подтянулись к сцене. Я оглядела зал. Мы занимали всего несколько рядов.
— Товарищи, на прошлой неделе семья Жана Пуансо узнала, что он убит в Алжире. Жан был рабочим у Лавалетт, он жил в этом районе. В одном из последних писем он выражал надежду вскоре вернуться во Францию. В эту тяжелую минуту профсоюзные секций Всеобщей конфедерации труда, районные партийные ячейки скорбят вместе с семьей о юной жизни, скошенной войной.
Мы захлопали.
Оратор откашлялся и продолжал более звонким голосом:
— Война в Алжире должна быть немедленно прекращена!
Все закричали и стали отчаянно аплодировать.
— Трудящиеся Десятого округа, от вашего единства в значительной мере зависит установление мира, примирение наших народов.
Что сейчас делал Мюстафа? Что подумал бы он, увидев меня здесь?
Выступили еще двое. Последний оратор, оглядев аудиторию, заговорил, не повышая голоса. Он сказал, что нас мало, но что это не должно подрывать нашего мужества; что смерть молодого рабочего взволнует трудящихся, что он погиб не напрасно, если мы объединим свои усилия в борьбе за мир.
Когда мы вышли, десяток полицейских был расставлен вдоль улицы. Думая, что нас больше, они ожидали, не выйдет ли еще кто.
Люсьен пожал несколько рук, и мы остались вчетвером во мраке набережной Жемап. Парень, присоединившийся к нам, предложил пойти выпить стаканчик. Он привел нас в тихий бар, ему этот район был хорошо знаком.
— Бутерброды?
— Да.
— Да.
Наконец–то мы поедим. До сих пор это, казалось, никого не занимало. Люсьен и его приятель яростно спорили. Нам принесли пенящееся пиво, потом хлеб.
Пиво развязало мне язык.
— Нет, вы только поглядите на нее! — вздохнул Люсьен. Он обернулся к соседу. — Ей понадобилось двадцать восемь лет, чтоб проснуться, а теперь она хочет всех опередить.
— Я настаиваю на том, что возмутительно не говорить о тех, кто больше всех страдает, — об алжирцах, о тамошнем населении и об эмигрантах, которые здесь.
— Важно поднять людей, — прервал меня парень. — Думаете, их поднимешь разговорами о страданиях алжирцев? Нужно говорить о том, что их затрагивает. Гибель этого паренька в Алжире вызовет разговоры, завтра такая же судьба ждет их самих, сына или брата. Парижане отличаются быстропреходящей чувствительностью. Можно поднять весь город на сбор помощи нищим, если нынче в моде нищие, и можно поднять его на протест против войны, несправедливости, но волна тут же спадает. И между двух волн надо дать людям возможность пожить.
Люсьен заметил, что существует опасность разжечь ненависть, породить желание мести.
— Гляньте, — сказал парень.
Он взял газету, валявшуюся на диванчике. На первой полосе рисунок в жирной рамке: силуэты мужчин, сидящих вокруг стола, спиной к ним — связанный человек с кляпом во рту под охраной двух вооруженных стражей. От каждой головы белая пунктирная линия к пояснительной надписи.
«Судья».
«Осужденный».
«Палач».
«Присяжный».
Внизу было написано крупным шрифтом: «Осужденный на смерть трибуналом ФЛН. Этот человек будет казнен на глазах у тех, кто вынес ему приговор».
Картинка производила сильное впечатление. На второй полосе тоже можно было прочесть: «В центре Парижа в подвалах совершаются убийства».
— Тебе не кажется, что они чересчур далеко заходят в своих внутренних счетах?
— Это их дело, — сказал Люсьен. — Когда руководишь подпольным движением в самом логове врага, приходится прибегать к методам…
— Да, — согласился наш сотрапезник. — Революция не делается в белых перчатках; но все население настроено к ним враждебно.
От пива усталость проснулась и растеклась по всему телу, до самых кончиков пальцев. Люсьен хотел заплатить, тот не давал ему. Наконец мы поднялись, он проводил нас до метро. У нас с Люсьеном закрывались глаза, хотелось спать. Брат спросил меня, приноровилась ли я к конвейеру, выдержу ли.
— Кстати, — сказала я, — не объяснишь ли ты мне, что означали слова Жиля.
Я передала ему наш разговор.
— Почему он не хочет побеседовать с тобой во время обеденного перерыва, на заводе или вне его? Проще простого. Если вас увидят вдвоем, все скажут, что он за тобой бегает, или что ты бегаешь за ним. Это ему неудобно, да и тебе тоже.
— Здесь? В Париже? Рабочие так подумают?
— Да, а ты как полагала?
Мы шли быстро. Ложился туман.
— Ну вот ты дома.
Мне оставалось пробежать еще сто метров. Я быстро легла. Приближалась полночь. В пять прозвонит будильник.
Я толкнула дверь цеха. Кто–то меня окликнул. Я обернулась. Наладчик затаптывал недокуренную сигарету. С ним был рабочий, которого я несколько раз видела проходившим по цеху.
— Привет, — сказал он мне. — Вы новенькая?
— Она здесь уже, по крайней мере, две недели, — заметил наладчик.
— Одиннадцатый день, — сказала я.
— Я профорг.
— Очень рада.
Я улыбнулась ему.
— Напишите мне ваше имя, завтра я передам для вас билет и марку.
— Платить нужно сразу?
Он засмеялся.
— В получку, если вам удобнее. Вы откуда к нам?
— Из провинции.
Рабочие входили. Мы шли по цеху. Я упомянула о брате. Он сказал, что знает его, что это твердый орешек.
Доба, проходя мимо, дружески похлопал меня по плечу.
— Здравствуйте, барышня… Мой вам совет: вы так милы, серьезны, вас ни в чем не упрекнешь, не попадайтесь в лапы к профсоюзу. И не слишком разговаривайте с алжирцами. Желаю успеха.
Заработали моторы, и гигантский механический змей принялся пожирать нас. Я влезла в машину. Арезки, товарищ Мюстафы, уже закреплял болты. Он обернулся ко мне.
— Я поставил зеркало в предыдущей машине. Если вы проверяли ее вчера вечером, то его там не было.
— Точно. Спасибо.
Арезки работал стремительно, время от времени останавливаясь. Все утро он искал глазами Мюстафу. Я тоже беспокоилась, мне вспомнился рисунок в газете. Не прикончили ли его в подвале? Или он сам там приканчивал других?
Я оглядывала по очереди всех мужчин, работавших рядом. У Арезки лицо было серьезное, он почти не раскрывал рта.
Наконец появился Мюстафа. Он не разделся. На нем было пальто в крупную черно–белую елочку.
— Здравствуйте, — громко крикнул он.
Арезки, казалось, был недоволен.
Подошел бригадир.
— Ну, ты что здесь делаешь? Что с тобой стряслось?
— Я проспал! — крикнул тот.
— Бегом в раздевалку. Это тебе так не пройдет. Марш…
— Потише, — сказал Мюстафа.
Держась с большим достоинством, он спустился и направился к станкам.
Бернье скрепя сердце принялся приколачивать реборды. Белые халаты прохаживались по цеху, могли нагрянуть в любую минуту.
Мюстафа вернулся, и Бернье протянул ему его молоток.
— Держи. Твой ящик в машине. Но премия твоя улыбнулась.
— О, — сказал Мюстафа пренебрежительно, — нужна она мне.
На нем был толстый свитер, синий с белым; я никогда не видела его в спецовке или в комбинезоне. Алжирцы на конвейере как правило работали в пиджаках из твида и замасленных джинсах. На Арезки была черная футболка с засученными рукавами.
Мюстафа принялся приколачивать уплотнители, потом остановился и предупредил меня:
— Внимание, здесь хроно.
— Хроно? Это еще что?
Он пожал плечами; я перешла к следующей машине, не дожидаясь ответа. Он приблизился своей ленивой походочкой, оттолкнул маленького марокканца, ударил несколько раз молотком и остановился.
— Что с вашими волосами? Вы опять подобрали их? Вы не знаете, кто такой хроно? Это — хроно. Нужно работать не торопясь.
Он показал как, но в это время Бернье попросил, чтоб я пошла за ним.
— Взгляните, что вы пропустили.
Машина, на которую он мне указал, шла далеко впереди, она была уже в секторе, где устанавливали замки. Бернье взобрался в нее, присел и показал на широкий разрыв в пластике на уровне левой реборды.