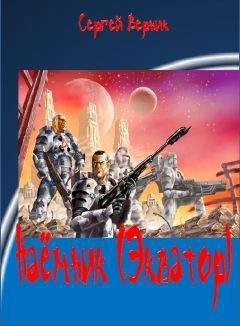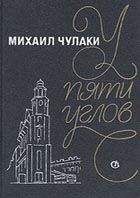Клер Эчерли - Элиза, или Настоящая жизнь
Я подошла к рабочему, который устанавливал панели приборов. Дотронулась до его плеча. Он поднял голову и улыбнулся мне.
— Предупредите вашего товарища, — сказала я. — Он пропустил уже четыре машины. Мне бы не хотелось, чтоб у него были неприятности.
Он пожал плечами.
— Пусть. Он — лентяй.
Другой, работавший рядом, наклонился, прислушиваясь.
— Кто? — крикнул он моему собеседнику, тот ответил по–арабски, указывая на Мюстафу.
Рабочий положил инструмент и побежал к машине.
Я вернулась на свое место. Мало–помалу мои мышцы привыкали. Но по ночам мне все еще снился гигантский конвейер, по которому я карабкалась.
Мюстафа подошел ко мне.
— В чем дело?
— Я хотела вас предупредить, вы пропустили четыре машины.
— Не ваша забота.
Он был недоволен и знаком показал, чтоб я записала.
— Отметьте, и все тут.
Новенький подошел к нему. Я отвернулась, но чувствовала, что они говорят обо мне, и не смела двинуться.
Они отошли от дверцы. Я спустилась и несколько секунд не трогалась с места. Внезапно я ощутила жажду. Волнения, робость, насмешки Мюстафы — все вдруг слилось в этом первобытном желании. До перерыва оставалось около трех часов. Я привалилась к стене. Мюстафа как раз проходил мимо. Со своими ребордами, надетыми на шею, он был похож на заклинателя змей. Новенький держался рядом. Профиль у него был сухой, когда он говорил, под скулами обозначались впадины. Черное пламя горело под густыми бровями. Он улыбался, опираясь рукой о плечо Мюстафы.
Нужно выйти. Мне было нехорошо. Запах бензина подкатывал к моему рту, как клубы дыма. Я пропустила несколько машин. Как выйти? Я вспомнила о Доба. Он был где–то выше по конвейеру. Идя вдоль прохода, я увидела его, он натягивал пластик с помощью двух парней. Он заметил меня и удивился.
— Я больна, — сказала я. — Вы не замените меня на минутку?
Он глядел на меня округлившимися глазами.
— Вы бросили машины?
— Я больна.
— О–хо–хо!
Мне казалось, что все глядят на меня. Я испугалась. Здесь не так–то просто было заболеть. Это не было предусмотрено. Хорошо бы вернуться на свое место. Хорошо быть колесиком, которое никогда не выходит из строя. Но стоит пойти на перекос, ощущаешь свое тело, тяжесть в желудке, муть в голове…
— Деточка, — сказал Доба, стиснув мне Руку, — ступайте. Вы бледны как смерть. Придумают тоже, женщину — на конвейер! Будете идти мимо, предупредите бригадира. Он кого–нибудь поставит. А я, видите сами, не могу отойти. Слишком он быстро движется. Саид, — позвал он, — проводи ее к Бернье.
Бернье сидел на высоком табурете перед пюпитром, почти подпиравшим его подбородок. Одетый в слишком длинный халат, рукава которого были засучены, он казался хилым. Его лицо с вздернутым носом и глубоко спрятанными круглыми глазками было создано для улыбки. Он всегда выглядел довольным. Иногда он принимался орать во всю глотку, чтоб напомнить, что он начальство, рабочим, которые его в грош не ставили. Но его крики были похожими на жалобный лай и никого не пугали. Зато сам он просто дрожал, если к нему обращался Жиль.
— Так, — сказал он, когда я объяснила, — так, так.
Он раздумывал, как положено поступить.
— Ну, хорошо. Я дам вам талон на выход в санитарную часть. Вот. Четверть часа. Достаточно? Сейчас восемь пятьдесят, до девяти пятнадцати. И я, — добавил он печально, — сам заменю вас.
Он положил ручку. Он выводил готическими буквами плакатики: «ТОРМОЗА», — «СТЕКЛОВАТА», — «КНОПКИ № 2».
— А где санитарная часть? Объясните, пожалуйста.
— Надо перейти через улицу. Но…
Он слез со своего табурета и тщательно выбрал карандаш.
— Но выходить не надо, пройдете через цокольный этаж.
Я не знала цокольного этажа.
— Внизу разберетесь, — сказал он, раздосадованный.
В этот момент к пюпитру подошел приятель Мюстафы.
— Привет, Резки, — крикнул ему Бернье. — Вернулся, значит?
— Да, пойду снесу бумаги на медицинскую проверку.
— Вот как, проводи ее тогда в санитарную часть, — обрадовался Бернье.
Я взяла талон, который он мне протянул, и пошла за человеком, именовавшимся Резки. Когда мы подошли к двери, нас встретили улюлюканьем.
— У-у, у-у, — вопили мужчины.
Резки остановился и подошел к группе негров и алжирцев, встретившей нас столь шумно. Я сделала несколько шагов вперед и поравнялась с моим провожатым. Он что–то прокричал им по–своему и подтолкнул меня к двери. Когда она отделила нас от оглушительного грохота цеха, он сказал мне мягко: «Извините их». Потом добавил, как Люсьен:
— На заводе дичаешь.
Больше он не произнес ни слова и, казалось, забыл обо мне. Я следовала за ним по подземному ходу, связывающему две части завода.
— Вы давно здесь? — спросил он, когда мы выбрались наружу.
— Девять дней.
Он показал мне лестницу, которая вела в санитарную часть, и пошел дальше, в контору.
Комната была небольшая, светлая, хорошо натопленная. Перед газовой плиткой сидела старая женщина в белом халате.
— Что случилось? — спросила она.
— Мне нехорошо, тошнит.
— Вы беременны?
— Я возмущенно ответила, что нет.
— Сядьте.
Она мягко взяла мое запястье, потом вернулась к плитке, взяла чайник, выбрала стакан на полке, поставила его на стол передо мной. Я увидела, что на ней домашние туфли, обшитые мехом.
— Возьмите, деточка. Пейте не торопясь.
Это был какой–то отвар. Я наслаждалась минутой. Здесь, в чистом, теплом, залитом солнцем медпункте, где находились обычные вещи — чайник, от которого поднималась спиралька пара, мойка, выложенная белыми плитками, стаканы, — нечеловеческие масштабы цеха, с его конвейером, металлическими стойками, запахом разогретого бензина, показались мне особенно ужасными. «Нет, я не останусь; еще пять дней, получка, — и я уезжаю».
Старая женщина взглянула на часы.
— Я подписываю ваш талон, деточка. Когда почувствуете себя лучше, пойдете.
Я тихонько пила отвар, дуя на него. Пальцы согрелись от стакана. Зазвонил телефон. Сестра подошла к аппарату, висевшему на стене. Пока она говорила, ее рука нащупала шпильку в прическе, вытащила, почесала в ухе. Бабушка часто так делала.
Куда–то отступили тепло, свет, кафель. Мои лживые послания, ее письма, написанные под диктовку кем–нибудь из больных, обвинения, проклятия и под конец просьба: «Возьми меня!» Я отвечала: «Наберись терпения, я здесь зарабатываю деньги. По возвращении сделаю ремонт и куплю тебе приемник».
Кто–то постучал в дверь. Она положила трубку и крикнула: «Войдите».
— Опять ты, — сказала она вошедшему.
Он был низкоросл, смугл, с вьющимися волосами.
— Что скажешь?
— Горло, — сказал мужчина.
— Конечно. Сядь. И поосторожнее с моими флаконами.
Я встала, поблагодарила и вышла.
Крикуны были заняты. Они заметили меня слишком поздно. Их вопли долетели до меня приглушенными, я отошла уже далеко.
— Вам плохо? — спросил Мюстафа, увидев меня.
— Уже лучше.
— Что? — сказал он, стараясь расслышать.
— Уже лучше! — прокричала я.
Наладчик, проходивший мимо, окинул меня суровым взглядом. Я вскарабкалась на конвейер. Бернье заметил меня и подошел за талоном.
— Пришли в себя?
Я кивнула. Мне в самом деле стало лучше. Мое рабочее место, мой, привычный, квадратик вселенной, успокоительное ощущение своей норы, крова, убежища.
Около десяти часов Бернье произвел перестановку. Пришел приятель Мюстафы, и Бернье подозвал рабочего, который закреплял зеркала. Это был иностранец. Мюстафа называл его «мажир». Доба сказал мне: «венгр», а Жиль уточнил: «мадьяр». Он не говорил по–французски и работал безмолвно, с каким–то остервенением перескакивая с машины на машину. Вообразив одиночество этого человека, лишенного каких бы то ни было контактов с окружающими, даже того грубого, но реального общения, которое возникает, когда мужчины перебрасываются ругательствами, я сочла свое положение привилегированным.
Бернье заглянул в машину, где была я.
— Резки! — позвал он.
Он схватил меня за руку и крикнул прямо в ухо:
— Теперь он будет устанавливать зеркала.
Он засмеялся. Он походил на жизнерадостного поросенка.
— Резки, — закричал он, — берегись, она все замечает.
— За сколько минут она все замечает? — холодно спросил тот.
Бернье отпустил мою руку и вылез. Алжирец быстро закрепил болты и, не глядя на меня, вышел из машины. Все утро я наблюдала за ним. Он работал споро и хорошо. Мы ни разу не оказались вместе. Он опередил меня, и я тщетно искала его глазами. Мюстафа валандался, пропускал машину, бежал, ругаясь, вверх по конвейеру. Иногда он делал мне знак и, настигая машину, устанавливал за несколько секунд свой уплотнитель.