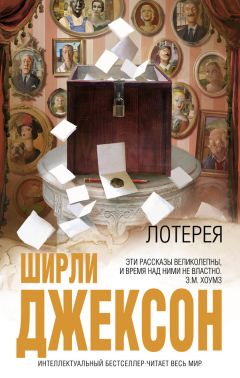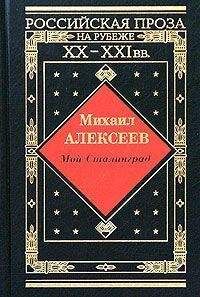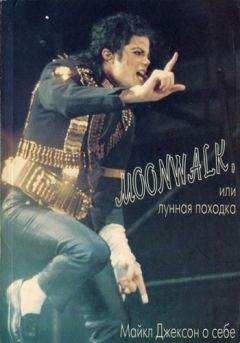Трецца Адзопарди - Укрытие
Мэри, Пиппо — человек зажиточный, говорит он.
Да будь он хоть Крезом, я все равно не позволю ему наложить лапу на мою дочку!
Отец меняет тактику.
Я вот смотрю на Энн Джексон, говорит он, кивая в пространство. Опасное нынче время для девушек.
Энн Джексон — шлюха! Наша Селеста не такая. Сам ее спроси, говорит она, взглянув на часы на кухонном столе. Она вот-вот с работы вернется.
Вот этого отец делать не хочет. Он отодвигает стул, бочком проскальзывает к лестнице. Проходя мимо мамы, гладит ее по плечу.
Фрэнк, я сказала нет, кричит она, когда он поднимается наверх. И не надо ни с кем говорить!
Наверху Фрэнки переодевается в свой лучший костюм. Беды не будет, думает он, если я просто выслушаю предложение Пиппо.
* * *Вечер ясный. Мама ждет у задней двери, а я сижу на корточках у нее за спиной, защищенная от ветра ее широкой юбкой. Я слышу, как болтают в столовой Роза с Люкой, то и дело разговор стихает, а потом раздается пронзительный смех Люки. Наверняка это Роза кого-то представляет: она может одними только гримасами изобразить все семейство Джексонов: кривая улыбочка для Артура, Элис с надутыми губами, Рой — один глаз зажмурен, а второй вращается вокруг своей оси. Она и нашу семью не пощадила: подметила, как Фрэн сдувает челку со лба, как отец, когда злится, раздувает ноздри. И меня — это легко: Роза просто втягивает руку и машет пустым рукавом в воздухе.
Я не знаю, кого ждет мама — Фрэн или отца: уже скоро девять, а их обоих нет. Селеста пошла в молочный бар и вернется позже, так что мама точно поджидает не ее.
Меня не ждите, сказала Селеста, роясь в кошельке в поисках мелочи. У меня встреча.
Ясное дело, мадам, говорит мама. А как же вы домой попадете?
Селесте нравится делать вид, будто у нее есть ключ. Она вздергивает подбородок.
Есть способы, шепчет она загадочно.
Это означает, что Селеста будет стоять на улице и кидать в окно камушки, пока Роза не прокрадется вниз открыть ей дверь. Отец об Уловке, так это называется, и не догадывается, но маме все известно.
Вот разобьешь стекло, сама будешь платить, говорит она обычно наутро, когда Селеста пытается запихнуть в себя овсянку.
Какое такое стекло? — вскидывается отец, и его рука с ложкой застывает в воздухе. Мама меняет тему.
Кто-нибудь хочет добавки? — спрашивает она, берясь за прокопченную кастрюлю. И мы тут же притихаем.
Селеста еще не знает про Пиппо. В глубине души мама хочет, чтобы Селеста порадовалась напоследок: она знает, что ждет дочку.
Мама поначалу меня не замечает: она увлечена пением. Она обычно тихонько что-то напевает, а потом вдруг, ко всеобщему удивлению, разражается громкой песней. Сейчас она что-то пыхтит себе под нос — очень похоже на генератор, что стоит на углу Площади, — и я не хочу ее прерывать. Из-за ее спины я вижу стену в конце двора, небо, полное звезд, изморозь на дорожке. Нам пора ложиться, но мама поручила это Розе. Ничего хорошего, потому что Роза не станет тратить время и помогать мне надеть ночнушку, а вот Люка такой возможности не упустит: ей всего семь, но ведет она себя так, будто это она моя мама.
Долорес, скажет она, ты надела рубашку задом наперед. Немедленно переодень как следует! А когда я высуну руки из рукавов, переверну ночнушку и снова надену, она найдет новый повод придраться:
Вот дурочка убогая! Ты ж ее наизнанку напялила! А ну, давай все заново!
Люка переглянется с Розой, и обе захохочут. Может, я не разбираю, где зад, а где перед, где лицо, а где изнанка, но понимаю, когда надо мной издеваются. Я не хочу сидеть с ними в столовой, особенно когда задняя дверь открыта и мама стоит на сквозняке. У нее такой вид, будто она сейчас уйдет и уже никогда не вернется.
Как мне хотелось убежа-а-ать,
встать на колени и моли-и-иться,
поет она громко, словно нарочно желая укрепить мои страхи.
Мам, может, ты мне почитаешь, тихонько прошу я, чтобы отвлечь ее.
Она оборачивается и смотрит на меня: от вечернего воздуха лицо у нее бледное. Она наклоняется ко мне.
Дол! Ты же замерзнешь! Где твои тапочки?
Я забыла их надеть; они под кроватью. Мы обе смотрим на мои ноги, и мама обнимает меня, берет на руки.
Ох, какая ты стала большая, стонет она. Где же эта негодница Фрэн, а?
Она крепко прижимает меня к груди и прислоняется к притолоке. В соседском дворе кто-то возится, из уборной доносится ругань мистера Рили. Через пару минут он вопит:
Делла! Где это чертово «Эхо»?
Мама, уткнувшись мне в шею, тихонько смеется.
Этот Рили, шепчет она. Опять у него бумага кончилась, Дол. Может, ему через забор перекинуть, а?
Из сортира доносится очередной вопль, миссис Рили кричит что-то в ответ, звякает цепочка. Мама уже не улыбается, она уставилась взглядом куда-то вдаль.
Где эта сволочь? говорит она.
Я не понимаю, о чем она.
Фрэн забыла о времени. Она не думает о том, что уже поздно, а только радуется, что в темноте пламя будет казаться ярче. Фрэн тихонько пробирается вдоль домов на Джет-стрит, приглядывается, нет ли где признаков жизни. Жильцов отсюда выселили, но есть опасность, что их место заняли другие — цыгане, ищущие, что бы продать, или пьянчуги, которые пристраиваются на ночлег где угодно. Однажды Фрэн заглянула в темное окно дома в конце улицы и увидела мужчину и женщину, лежавших посреди комнаты. Теперь она сначала находит незапертую дверь. Стоит, прислушиваясь, в коридоре.
Дверь за ее спиной закрыта, и от этого еще темнее. Фрэн ждет, пока привыкнут глаза, но все равно она вынуждена двигаться по узкому коридору, вытянув руки. Она инстинктивно поворачивает направо, в залитую лунным светом комнату. Посреди стола стоит чашка с блюдцем, перед потухшим очагом сушка для одежды, на которой висит одинокий слюнявчик: жильцы, видно, выезжали в спешке. На полу валяются бумажные пакеты и какая-то одежда. Фрэн их толком не видит, но слышит, как они шуршат у нее под ногами. Она переходит в кухню, слышит в тишине свой собственный вздох и выдвигает ящик. Пусто. Другой — пусто. Она не боится ни пространства, ни его пустоты, ни размеренного гула в собственных ушах: она ищет. В кладовке при кухне находит стул, вытаскивает его в коридор и пинает ногами, пока он не разваливается.
Фрэн собирает деревяшки и возвращается в столовую. Фонари, поскольку здесь уже никто не живет, не горят, поэтому света мало: ей приходится действовать на ощупь. Ее руки шарят по стенам, она нащупывает обрывок обоев, тянет вниз, обои отходят длинной полосой. Пальцы находят следующий кусок, она снова рвет обои. Она работает быстро, и вот уже в воздухе стоят облака пыли, а пол усеян клоками бумаги: на костер хватит.
Сегуны живут на Коннот-плейс, не так уж далеко от нас, но это лучший район города. Фрэнки спешит по черному горбу Дьяволова моста, по пустынной улице, ведущей в тупик, и на подходе к дому Пиппо замедляет шаг. Здесь все здания одинаковые; высокие викторианские дома, у каждого железные перила до самого тротуара, широкие ступени крыльца. Большинство из них разделено на квартиры, и, проходя мимо, Фрэнки все заглядывает в полуподвальные окна. Он не удивился бы, если увидел там себя сидящего с вытянутой шеей, чтобы разглядеть прохожих. Это напоминает ему о той поре, когда он сошел на берег в Тигровую бухту.
Дом Пиппо отличить легко: только в нем все шторы одинаковые — ярко-оранжевого цвета. В каждом окне горит свет, над крыльцом светит холодным белым светом уличная лампа. Венок из плюща на входной двери кажется в ее лучах серым. Фрэнки не догадывается, зачем здесь этот венок: для Рождества рановато, думает он. На самом деле так Сегуны демонстрируют улице свое горе. Фрэнки ставит одну ногу на ступеньку и останавливается — продумать стратегию разговора с Пиппо. Ступень под его начищенным ботинком такая ослепительно белая, словно ее залили сахарной глазурью. Но это всего лишь иней, понимает Фрэнки, когда делает шаг: он тут же заваливается вправо и едва не скатывается вниз. Выругавшись вслух, он хватается за перила и выпрямляется, но по телу успевает пробежать искорка нервной дрожи.
В какой-то момент в комнате становится слишком жарко, и Фрэн приходится переместиться в угол. Она скользит вдоль стены, глядит на тени на потолке — сначала сплошные, потом разбегающиеся в стороны — они словно ищут лазейку, чтобы скрыться от жара. Она поднимает ладони к лицу и смотрит на кости, просвечивающие сквозь кожу — как на рентгене. Скоро наступит время, когда она уже не сможет контролировать огонь — он тогда начинает творить нечто непредсказуемое; будет сверкать, жидким сиропом разливаться по полу, в одно мгновение гаснуть и вдруг расцветать золотом. Дуновение ветерка может его разозлить. Фрэн не понимает, как велик риск, но именно это и тянет ее разводить огонь: она делает свою ставку, выясняет, насколько горячее, насколько высокое пламя может выдержать, и как долго. Она так похожа на отца.