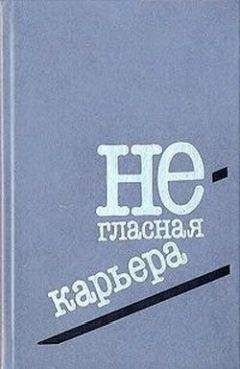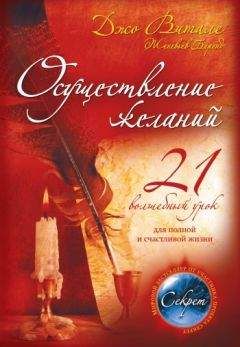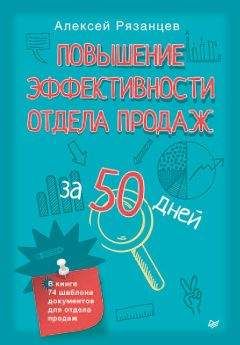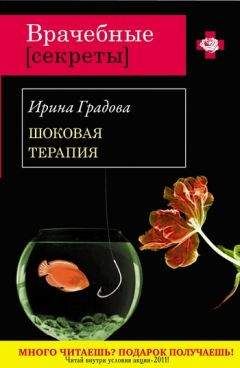Александр Проханов - Место действия
— Я повторял и буду всегда повторять: комбинат принес сюда возрождение! Прогресс и культуру… Я это всегда повторял! Комбинат воспринимается нами как долгожданное и давно обещанное благо! Покончив с убожеством, с бескультурьем… Ведь даже канализации не было!
— Не смешивай культуру с канализацией. При Менделееве в России тоже канализации не было… Иными словами, — заражаясь его бешенством, уже не владея собой, ненавидя испуганно-разъяренное, тигрино-овечье лицо, сказал Городков, — иными словами, ты хочешь, чтоб я ушел? Давай лист бумаги!
— Ты должен быть благодарен… Я делал тебе добро!
— Спасибо твоему гуманизму. Ты был всегда гуманистом. Корнеевы всегда были гуманистами. Педагоги, музыканты, присяжные. Но холуев среди них вроде не было…
— Прошу выбирать выражения!
— Я их выбираю старательно… Холуев среди Корнеевых не было. До самого последнего времени… Давай, говорю, бумагу!
Городков, ненавидя, испытывая налетающее головокружение, кидаясь в него и страшась, преодолевая страх рождающимся чувством свободы, не садясь, размашисто и разгульно написал заявление об уходе, щелчком откинул Корнееву лист.
Вышел, смеющийся, легкий, едва не ударив дверью подслушивавшую Варварьину. Прошагал мимо сотрудников, глядевших на него с ужасом из-за своих столов.
Уже в городе, забыв запахнуть ворот шубы, язвил, улыбался, продолжал сокрушать. Молодо, слушая морозное курлыканье ступеней, поднялся по деревянной Никольской лестнице под кремлевские стены, любя бесснежные, дикие осыпи, гончарно накаленные холодом, из которых остро, могуче торчали башни и главы. Запыхавшись, пронес свое горячее лицо через кремль, где нетоптаный снег лучезарно белел, и синели тени шатров, колоколен, и платовские пушки в сугробах поглядывали на восток. Вошел в музей, в натопленную комнату Голубовского. Старик, рассыпав гриву по сутулым плечам, нацепив очки, трогал желтоватыми пальцами старинный сундучок, окованный железом, с узорным секретным замком и облупленным рисунком: мохнатое, зеленое дерево, и под деревом, поднявшись на задние лапы, высунув красные языки, целуются лев с конем.
— Сережа? Ну как хорошо!.. Сию минуту о тебе подумал… — И с порога, радуясь старику, Городков спешил ему все поведать. О своем освобождении, победе. Возбужденно, сбиваясь и его возбуждая, принимая его благословение на новую жизнь.
— Да вы же знаете, Егор Данилыч, Корнеев бездарный, бесцветный. И в сущности, несмотря на хищные зубки, беззащитный! Вцепился в свой маленький ломтик — и сыт и счастлив!.. А ведь были, были надежды! Стишки писал, домой ко мне прибегал читать. Тянулся, тянулся. Со школы тянулся, троечник, слабачок, белесенький и бесцветный. Мучился, завидовал чужому таланту. И теперь вот реванш взял! Нате вам, отомстил! На колени хотел поставить! Хлеба лишил, кормилец!.. Да я из его нечистых, нечестных рук корки не возьму! С голоду умру, не возьму!.. Ведь прав я, Егор Данилыч?
— Прав, мой милый, сто крат!.. Ты избежал величайшего искушения, величайшего! Искушения хлебом!.. Гордись, гордись! Каменья, обращенные в хлеб, но в каждом таится камень, и ты разгадал и отверг! Ибо сказано, что не хлебом единым… И мы это крепко помним. Хлебы не на полях, в душе у нас хлебы, белоснежные, ситные, нескончаемые, утоляющие глад. В душе замешено наше тесто, брошены дрожжи и медленно всходят, от века к веку. И сквозь жары, огни выпекаем мы хлеб духовный!.. Вот что с тобой происходит: выпекается хлеб твой духовный!
— Да я, Егор Данилыч, лучше дрова колоть или глину месить, а ему не поклонюсь! Пушкареву не поклонюсь! Думали меня сломать… А я жив и свободен, вот он! Я теперь, Егор Данилыч, писать… Наконец-то стану писать. Свое, любимое, долгожданное…
— Да, Сережа, конечно… Будешь писать… Теперь ты свободен от сидения в редакции, и все силы искусству. Ты, Горшенин, Маша, Файзулин — вы наши таланты, ядринцы, пусть неоцененные, но таланты, и рано или поздно узнают… Из каждой избы, из каждого глухого угла Русь выводила таланты… Ничего не исчезнет, Сережа! Вот, смотри, сундук… И в огне горел, и в воде тонул, и кровь на нем, и слезы, и саблей колот, кистенем бит, пулей стрелян, и злато у него отобрали, и самоцветы, и замок сломали, и ключ позабросили, а главное богатство — все в нем! Красота его в нем, искусство живет! Ключи от красоты не подобраны, и конь со львом все целуются! Не о слезах, не о крови, не о злате их поцелуи, а о красоте и любви.
— Я, Егор Данилыч, хочу книгу про Ядринск. Откуда Сибирь повелась. О наших родах и судьбах. Летопись… Как вот это дерево, все корни, все листья, до древности… Труд один, на всю жизнь…
— Я тебе помогу, Сережа, с наслаждением, пока силы есть. Все архивы — твои. Днем и ночью являйся, зови. Я ведь думал: мой сын меня сменит. Увы, увы — отвернулся. А ты пришел! Ты мне как сын, Сережа!
И он, разволновавшись, со слезами обнял Городкова, поцеловал в губы. И Городкову казалось, два красных нарисованных зверя откликнулись ржанием и рыканьем.
15
Любящий, вдохновленный, Городков возвращался домой.
Шел через рынок, радуясь синеватому, твердо-холодному снегу, солнечным пятнам на прилавках, на лицах, на грудах товара. Ему чудилось: петухи трясут красными гребнями, кукарекают, хлопают крыльями, выклевывают из снега золотые блестящие зерна — так выглядела и гомонила толпа.
Лисьи меха, опудренные инеем, дергали на ветру ворсом, сыпали искры. Старухи-татарки гладили их вдоль спин, голов, разбросанных в стороны лап. Меха выгибались и вздрагивали от прикосновений старух.
Парень, скинув поношенную шапчонку, открыв белесую макушку, нахлобучил мохнатую собачью ушанку, утонув по глаза в растрепанных черных космах. Татарка совала ему под нос круглое зеркальце, цокала языком, уговаривая:
— Ах, хорошо! Ах, модно! Самый красивый сейчас!
Женщины останавливались перед кипами домашних, рукодельных кофточек, блузок, пальтушек. Отгибали и трогали края невесомо-воздушных пуховых платков. Подбрасывали на ладонях клубки крашеной шерсти. Одна из них, скинув валенок, открыв узкую, гибкую, молодую стопу, обтянутую пестрым носочком, натягивала сапожок.
— Да возьми! С топоточком! Всех перепляшешь! — уговаривала ее хозяйка.
Темный, закопченный мужик, со следами вчерашней гульбы, набросив на плечи тулуп, волочил его по снегу.
— Да бери, пока продаю! Не прогадаешь! Морозы еще все впереди, — внушал он двум робким, видно приезжим, парням в зябких, несибирских пальтишках, щупающим нерешительно и завистливо углы курчавой овчины.
Зная, любя рыночную, петушиную сутолоку, клюквенные, огуречные запахи, бойкие, зоркие или терпеливо-величавые лица, примелькавшиеся уже на улицах, чувствуя, что и его узнают, Городков огибал прилавки с живыми кроликами, мешками кедровых орехов, забавные стеклянные шары, в которых плавали восковые русалки, рыбки и водоросли. Черенки лопат белели сочно, пахуче. Коромысла чернели коваными, только что из кузни, крючками. Точеные шкатулки краснели резными сердечками. «Все это мое и любимо… Теперь опишу…» На ступеньках рыночной закусочной, выскочив на секунду, посмеивалась повариха, молодая, окутанная паром, как из бани, в крепеньких, на босу ногу, валенках, розовея полными икрами. Рядом Михеич, рыночный мужичок, хмельной и обросший, сдувал с пивной кружки пену, толкал повариху локтем.
— Чего смотришь? Не видел? — усмехнулась повариха Городкову, чуть приподняв юбку над круглой, яблочно-румяной коленкой. — Пойди-ка постой у плиты. Не так еще выскочишь!
— Пиво сегодня — во! Возьми кружечку! — приглашал Городкова Михеич.
Пузыри отрывались от кружки, летели над рынком, перламутрово переливаясь. Городкову казалось: повариха, возчик колдуют, заговаривают толпу и его приглашают. Знают нечто о нем, о толпе, о ее петушином клекоте.
Проходя мимо лавочки с вывеской «Заготживсырье», увидел в раскрытую дверь кадки, пахнущие кисло и едко, косорукого, ловкого малого, кидающего соль на прилавок, и кто-то перед ним разворачивал парной, кровавый ковер свежей лосиной шкуры.
Городков испытал на мгновение душное головокружение и ужас. Хотел разглядеть и припомнить. Но дверь затворилась. Повариха дула на пиво. Сорвавшись с хохочущих губ, мимо Городкова пролетел крутящийся перламутровый шар.
Двухэтажный дом, с необбитыми литыми сосульками, валившими его набок, встретил Городкова черной грудой угля во дворе, от которой уже тянулась пепельная закопченная тропка — следы жены и соседей, выбегавших с ведрами за углем. В сумерках на лестнице дунуло в Городкова запахом сгнившего дерева, холодной пищи, тонкой вонью старого, населенного плотно жилья.
С мороза, еще неся недавнее возбуждение, и радость, и внезапно возникшее беспокойство, Городков вошел и словно ударился о другой воздух и свет.
В тесной кухоньке, среди шипения убегавшей и сгоравшей еды, теплой сырости развешанного по веревкам белья, ведер с мыльной водой, жена, блестя потом, опоясанная фартуком, вышла к нему, шумно шаркая стоптанными, на босу ногу, шлепанцами.