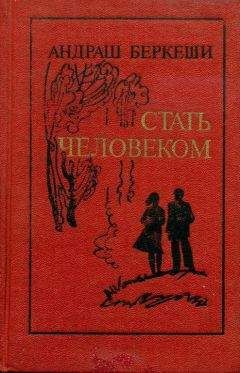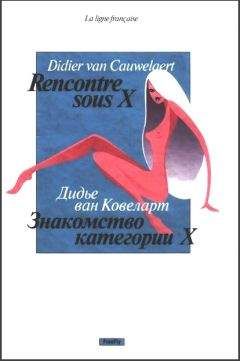Дидье Ковеларт - Чужая шкура
Ободренный моим «понятно», он тут же сообщает условия, сроки и сумму гонорара. Из всего этого меня привлекает лишь одно: в случае согласия, вечером я должен быть в Лондоне. На то, чтобы «приструнить» актрису мне дается не более двух суток, иначе последняя неделя подготовительного периода пойдет коту под хвост. Я прижму актрису к стенке где-нибудь в костюмерной и «прищучу» беспощадными ударами по фабуле сценария, это избавит меня от соблазна бесконечно сновать туда-сюда между авеню Жюно и почтовым ящиком на улице Лепик.
Время от времени, вот уже четыре года, кинематограф прибегает к моим малокомпетентным консультациям. «Сценарно-лечебная» практика началась завтраком с одним из кинопродюсеров: однажды, разжигая камин в выходные, он наткнулся на старую газету, где я изничтожил роман, права на экранизацию которого он приобрел. Снятый им фильм провалился, никто не понимал, почему, а он нашел ответ в моей статье, подчеркнул важные места, потом аккуратно вырезал, заламинировал и теперь торжественно размахивал ею у меня перед носом. «Смешение жанров! — зачитывал он с горьким злорадством. — Начало затянуто, середина рыхлая, финал смазан! А Вержиния — неправдоподобный персонаж! И не верится, что сын был на войне! Ведь говорил я сценаристам, но что вы хотите: на десятой версии сценария они уже не соображали ничего. А вы прямо сразу попали в точку!» За кофе он мне подсунул выдержки из диалогов другого бестселлера: «Если вы задержитесь еще на две минуты, может, скажете мне, что вы об этом думаете?»
С тех пор я подкармливаюсь, анонимно переписывая, вернее калеча сценарии. Я вступаю в дело уже на финишной прямой, прямо перед съемками, когда большинство продюсеров жаждут самоутвердиться и сбить с толку съемочную группу. Условия, на которых я вмешиваюсь в процесс, почти всегда одни и те же: за тридцать или сорок тысяч франков я должен убедить всех, что фильм не окупится, заставить их прозреть, взглянув на сценарий моими глазами, подвергнуть сомнению то, что до сих пор его не вызывало, предложить изменения, которые неминуемо и полностью исказят первоначальный замысел, в результате режиссер выходит из себя, швыряет мои доработки в мусорное ведро и снимает фильм по-своему, — скорее всего, он провалится просто потому, что зрители не хотят больше платить деньги, чтобы увидеть в кинотеатре тех же актеров, которых им бесплатно показывают по телевизору, но их все равно навязывают телеканалы-сопродюсеры. А наутро после премьеры продюсер вопит: «Прав был Ланберг!» — и мой гонорар возрастает пропорционально провалам, которым я же и поспособствовал. Если же вдруг, вопреки моим прогнозам, фильм имеет успех, продюсер все равно будет мне благодарен («Вот видите, все-таки на этот раз вы ошиблись!»), и это так повышает его престиж, что он непременно призовет меня, когда будет снимать следующий фильм — как амулет, на счастье.
— Если честно, — говорит мой агент тем натянутым тоном, которым обычно успокаивает свою совесть, — интересы режиссера представляю тоже я. Он отличный режиссер, но не топовый. А актриса, она вообще никому не доверяет, потому что последний фильм, где она играла главную роль, с треском провалился. Только вот сейчас, на этом проекте, она бы лучше помолчала — сценарий крепкий, не подкопаешься. Вы уж его не очень кромсайте… Видите ли, автор — тоже мой клиент. Продюсеры требуют вас, я выбил вам пятьдесят тысяч, только уж вы не слишком усердствуйте.
Я его благодарю: он истинный профессионал и вполне заслуживает десяти процентов, которые он возьмет с меня за мое бездействие. Надо как-нибудь спросить, что в его понимании означает «топовый», ведь он так называет и дебютантов, не выдавших пока ни одной картины, и позабытых зубров, осыпанных почестями, но не снимавших лет пятнадцать.
Несколько часов спустя такси подвозит меня к отелю «Блейкс» — модному зданию темно-серого цвета, обставленного в колониальном стиле, — с огромными вентиляторами, бамбуковыми стульями и плетеными сундучками. За столиком расположенного в цокольном этаже безумно дорогого ресторана, где лондонцы с английской церемонностью и немецким размахом за бешеные цены наслаждаются великой французской кухней, я внимаю жалобам актрисы, — находясь воистину в стрессовом состоянии, она поносит всех и вся. Я успел прочесть сценарий в «Евростар»[23]. Тоном врача, которого пациент умоляет сказать правду, я уверяю, что она права: сюжет туманный, затянутый, размытый. Объясняю, в чем лично я вижу подлиный смысл этой истории; правда, в сценарии все и так предельно ясно, но поскольку она его не перечитывала, с тех пор как подписала контракт, моя концепция ее воодушевляет. «Вот так и надо написать!» — восклицает она. Я рекомендую ей распить бутылочку шабли, чтобы успокоиться, и принимаюсь у нее на глазах вычеркивать слишком громоздкие и ненужные описания интерьеров, лишние ремарки, технические указания оператору-постановщику и вставки с указаниями для актеров, как они должны произносить те или иные реплики. Когда от сценария останется один скелет, наша звезда сумеет наконец в нем разобраться.
Ее лицо заметно веселеет, успокоенный продюсер выскакивает из-за столика в глубине зала и тянет за руку режиссера, который, похоже, хватил изрядную дозу транквилизаторов. Нас знакомят. Актриса говорит, что я гений, и все понял. Режиссер отвечает, что пойдет спать. Актриса спрашивает продюсера, почему не я снимаю фильм. Продюсер восхищается ее платьем. Актриса напоминает ему, что по контракту ей полагается номер с отдельной комнатой для ребенка и няни, и что этот отель ее не устраивает. Я говорю им всем, что иду работать к себе в номер. Она обнимает меня и ободряюще вонзает ногти в мои плечи. Продюсер тащится за мной до стойки администратора и говорит, что теперь у меня карт-бланш: сценарист недавно сломал ногу на зимнем курорте. И если ввернуть по ходу дела две-три постельные сценки, она согласится, раз их напишу я. Он нашел ей дублершу для обнаженки, такую отпадную, что просто грех не использовать ее на всю катушку, — вообще, было бы идеально как раз ее снять в главной роли, ну да это все мечты. Я благодарю его за доверие и захожу в лифт со сценарием под мышкой.
До часу ночи я занимался «выжиманием воды» из сценария и получал от этого истинное наслаждение. Так приятно сознавать, что жизнь берет верх, как ни безмерно твое горе, как ни смехотворны обстоятельства, которые позволяют хоть на какое-то время забыть о нем. Дело вроде пошло на лад, я вычищаю сценарий, в душном номере, обитом бархатом цвета антрацита, и чувствую себя изменившимся, обновленным, непохожим на себя; во мне прежнем появилось что-то, чего пока никто не знает. Письмо, которое отправилось в Брюгге, делает мое присутствие курьезом, словно я здесь и одновременно в Париже. Купив Ришару Глену адрес, разделив с ним жизнь и позволив ему существовать самостоятельно в грезах незнакомки, я и сам почувствовал себя на свободе, и сегодня за ужином, общаясь с людьми, я не был противен сам себе, как это бывает обычно. Однако я прекрасно знаю: в те моменты, когда ты недоволен собой, ты достигаешь гораздо большего, чем когда преисполнен уважения к себе. Но я никуда не рвусь, это не стоит на повестке дня. А вот, пятясь, я начал двигаться в направлении незнакомки и, закрыв сценарий, ложусь спать с уверенностью, что оставь я письмо без ответа, то предал бы Доминик куда больше, чем возжелав этой ночью, в этом случайном номере, прижать к себе тело юной девушки, лица которой даже не видел и о которой вообще ничего не знаю, кроме тех милых слов, которые она мне написала.
В результате я проторчал в Лондоне дольше, чем рассчитывал. Нередко обычная халтура в отместку за наше пренебрежение создает неожиданные проблемы и даже доставляет удовольствие, когда мы принимаемся за их решение. Актриса меня растрогала. Я перекроил роль, по ее просьбе перенес одну сцену в другое место, переставил реплики; я перетасовал кусочки пазла, которые в ближайшее время будут тасовать еще сотни раз. И правильно она делает, что прислушивается к своей интуиции, пока бюджет картины позволяет терпеть ее капризы. В глубине души я сочувствую этим девушкам — их преследует пресса своим вниманием, они обязаны высказывать свое мнение, бороться за социальную справедливость, откровенно отвечать на бестактные вопросы и вечно улыбаться. Они неуязвимы, пока «окупаются», и тут же оказываются за бортом, если больше не приносят денег. Эта еще не из последних, и талант у нее есть. Ей захотелось пройтись по магазинам, и она протащила меня с собой от Кингс-роуд до Слоун-стрит, прямо при мне примерила несколько пальто из твида фисташкового цвета в викторианском стиле, сексапильные маечки в кружевах, джинсы в стиле «гранж», потом подбирала сумки из стриженой овечьей шерсти и сумки в виде цветочных горшков, попутно советуясь со мной по поводу одной сцены: «Почему я говорю это в такой момент?» Набравшись терпения, я объяснял, отстаивал, потом переделывал. Она бросилась мне на шею ни с того ни с сего, поняла как реагировать, уловила смысл. Несчастная чувствительная девушка, все эти роли ей плохо даются, но других-то нет. В Лондоне, где меня никто не знает, она видит во мне наемного писаку, которого забудет в первый же съемочный день, ведь выгодное освещение куда важнее текста.