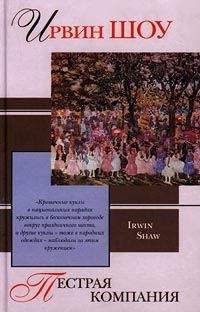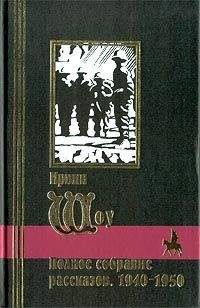Ирвин Шоу - Пестрая компания (сборник рассказов)
— Что случилось?
— Ничего, — ответила она; медленно, методично стала раздеваться, позабыв о своей обычной грациозной стыдливости, не покидавшей ее даже в этой маленькой, грязноватой, обшарпанной комнатке.
— Тебе помочь? — вежливо осведомился Гарбрехт.
Грета, перестав стаскивать чулки, задумчиво смотрела на него. Качнув головой, резко стащила за пятку чулок с правой ноги.
— Ты бы, конечно, мог, — она презрительно сощурила глаза, — но ты этого не сделаешь.
Гарбрехт бросил на нее косой взгляд.
— Почем ты знаешь?
— Потому что ты каким был, таким и остался, — холодно пояснила она. — Слабаком, тихоней. В общем, отвратительным.
— В чем дело? Что я должен сделать для тебя?
Ему, конечно, было бы легче, откажись она говорить, но ведь спросить-то все равно нужно.
Грета методически стаскивала чулок с левой ноги.
— Возьми с собой четверых-пятерых друзей — бывших героев немецкой армии, — заговорила она все с тем же пренебрежением, — и отправляйтесь к дому Фреды Рауш. Сорвите с нее одежду, побрейте наголо голову и в таком виде проведите ее по улице.
— Что-что? — Гарбрехт не верил собственным ушам. — Ты думаешь, что говоришь?
— Ты всегда вопил о чести, — громко произнесла Грета. — Твоя честь, честь армии, честь Германии!
— Да, но при чем здесь Фреда Рауш?
— Честь — это для немцев только тогда, когда они побеждают, да? — Грета злым жестом стащила платье через голову. — Просто отвратительно!
Гарбрехт покачал головой.
— Не знаю, о чем ты говоришь. Мне казалось, что Фреда — твоя хорошая подруга.
— Даже французы были куда храбрее вас! — Грета не обращала никакого внимания на его слова. — Ловили своих женщин, бесцеремонно брили им головы…
— Ну, хорошо, — устало пробормотал Гарбрехт. — Но что натворила твоя Фреда?
Грета бросила на него свирепый взгляд. Волосы ее перепутались и беспорядочно падали на плечи, крупное, довольно полное тело в тонкой комбинации все тряслось от холода и охватившего ее приступа гнева.
— Сегодня вечером она пригласила меня с моим лейтенантом к себе в гости…
— Ну и что? — Гарбрехт пытался сконцентрировать внимание на ее рассказе.
— Она живет с американским капитаном.
— Ну и что? — с сомнением в голосе спросил он.
Половина подруг Греты спит с американскими капитанами, а второй этого очень хочется. Неужели такой пустяк довел Грету до такого ужасного расстройства, чтобы даже потребовать мести?
— Ты знаешь, какая у нее фамилия? — задала риторический вопрос Грета. — Розенталь! Она же еврейка!
Гарбрехт вздохнул; его дыхание порождало какие-то пустые, печальные звуки в этой холодной полуночной комнате. Посмотрел на Грету, стоявшую перед ним: все лицо ее вдруг сморщилось, на нем пролегли дрожащие складки. Всегда спокойная, мирная, добродушно-веселая, может, слегка глуповатая девушка — и вдруг такой сюрприз. Он был в шоке.
— Если тебе вдруг приспичило побрить голову Фреде, — заговорил Гарбрехт все тем же усталым, тягучим тоном, — то поищи кого-нибудь другого. Я тебе не мальчик на побегушках!
— Конечно, я знала, что на тебя рассчитывать нечего. — Теперь от ее слов веяло ледяным холодом.
— Говоря откровенно, — Гарбрехт пытался ее урезонить, — я уже порядком устал от этого еврейского вопроса. По-моему, пора забыть о нем раз и навсегда. Может, на какое-то время он и годился, но теперь, похоже, мы его использовали до конца.
— Ах вон оно что! Успокойся! Что я, дура, могла ожидать от калеки?
Оба замолчали. Грета продолжала раздеваться — с презрением и подчеркнутой асексуальной фамильярностью. Гарбрехт тоже не спеша разделся и лег. Грета, в черной ночной рубашке из искусственного шелка (подарок щедрого американского лейтенанта), сидя перед маленьким, шатким зеркалом, накручивала волосы на бигуди. Глядя на ее отражение, Гарбрехт вспомнил вдруг то множество зыбких отражений в разбитом зеркале в офисе Сидорфа…
Закрыл глаза, которые словно жгло пчелиное жало, чувствуя, как дрожат веки; пощупал складку саднящего шва на правом плече. До конца своей жизни, вероятно, так и не сможет преодолеть чувства шока при виде этого странного рваного шва на своем теле. Никогда ему не избавиться от шока, если кто-то из окружающих называет его калекой. Нужно установить с Гретой более дипломатические отношения. Единственная его знакомая девушка, и время от времени в ее постели он испытывает истинную человеческую теплоту и несколько часов блаженного забытья. Смешно терять ее из-за какой-то глупой политической дискуссии, которая ему абсолютно неинтересна. Сейчас не так просто найти для себя девушку. Во время войны все куда проще: можно иметь кучу девушек, просто проявляя к ним обычную человеческую жалость. Но эта жалость пропала там, в Реймсе. Любому немцу, крепкому, абсолютно здоровому, все труднее конкурировать с престижем победителей, их пахучими сигаретами и шоколадом. А что уж там говорить об одноруком… Каким ужасным обернулся весь день — и вот вам, такая же ужасная концовка.
Выключив свет, Грета по-хозяйски влезла в постель, даже не прикоснувшись к нему. На всякий случай он протянул к ней руку. Она не шелохнулась.
— Отстань, я устала! У меня был трудный, долгий день. Спокойной ночи!
Гарбрехт долго лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к легкому храпу Греты. От маленького зеркала на той стороне комнаты отражался дрожащий, тревожный свет уличного фонаря, и блики играли у него на закрытых веках…
Приближаясь к дому, где находился штаб Сидорфа, Гарбрехт почувствовал, что невольно ускоряет шаг, — это могло объясняться только тем, что он желает этой встречи. Уже четвертую неделю доставлял он свои донесения этому толстяку — бывшему капитану и усмехается про себя, вспоминая, какой любовью вдруг проникся к Сидорфу. Тот оказался совсем нетребовательным. С интересом выслушивал сообщения Гарбрехта о встречах с Михайловым и Добелмейером, то и дело довольно пофыркивая; хлопал себя по ляжке, когда ему что-то особенно нравилось, а сам с присущей ему хитростью и чувством юмора изобретал всевозможные вполне достоверные небольшие истории, маленькие юморески, которые должен передавать вначале русским, а потом американцам.
Сидорф никогда не встречался ни с теми, ни с другими, но казалось, понимал и тех и других гораздо лучше Гарбрехта, и, нужно сказать, авторитет Гарбрехта как в глазах капитана Михайлова, так и майора Добелмейера постоянно рос после того, как им занялся Сидорф, наставляя на путь истинный.
Открывая дверь в штаб-квартиру Сидорфа, он с грустной улыбкой вспоминал, с каким гнетом страха, тревожных предчувствий впервые вошел сюда. Ждать ему пришлось совсем недолго: мисс Реннер, та блондиночка, которая впервые заговорила с ним на улице, тут же открыла ему дверь в комнату экс-капитана.
Сидорф явно был в хорошем расположении духа: весь сияя, ходил взад и вперед перед своим столом маленькими, даже крошечными шажками, очень похожими на танцевальные па…
— Привет, привет! — радушно молвил он, когда Гарбрехт появился. — Как хорошо, что вы пришли!
Гарбрехту никогда не удавалось различить: притворные утверждения, что руки у него, Гарбрехта, не связаны и он имеет свободу выбора, — это проникнутое юмором хитроумие или доведенные до автоматизма приятные манеры.
— Какой чудесный день! — верещал Сидорф. — Просто великолепный! Вы слышали новость?
— Какую? — осведомился довольно осторожно Гарбрехт.
— Как «какую»! Первая бомба! — Сидорф радостно захлопал в ладоши. — Сегодня днем, в два тридцать, взорвана первая бомба в Германии. В Штутгарте! Какой поистине торжественный день! Незабываемый день! После восемнадцатого года понадобилось целых двенадцать лет, чтобы немцы наконец приступили к реальной оппозиции союзникам. И вот теперь, менее чем за год после капитуляции, — первая бомба! Какое счастье! — Он сиял, весело глядя на Гарбрехта. — Ну, вы довольны?
— Очень, — дипломатично ответил Гарбрехт. Бомбы — это не для него. Может, для человека с двумя руками это развлечение, но не для него…
— Теперь мы приступаем к настоящей работе. — Сидорфу с большим трудом удалось загнать себя снова на кожаный стул за столом, и теперь он бросал с него пронзительные взгляды на Гарбрехта. — До сих пор ничего значительного. По сути дела, лишь создание организации. Испытание ее отдельных составных частей. Чтобы убедиться, кто может работать, а кто — нет в режиме жесткой дисциплины. Практика превыше всего. Теперь всяким маневрам конец! Мы приступаем к боевым действиям на поле боя!
«Эти солдаты, профессионалы, — горько размышлял Гарбрехт, чувствуя, как взломано его вновь обретенное умиротворение, — видно, так никогда и не смогут выбросить привычный жаргон из своего мышления. „Маневры“, „поле боя“… Судя по всему, они считают своим достижением лишь то, что непременно связано со взрывами, а единственное воспринимаемое ими политическое средство, доставляющее им удовольствие, — это смерть».