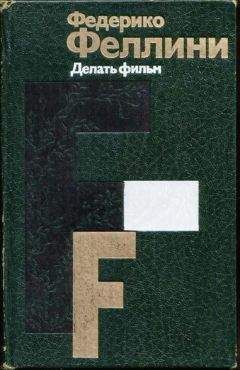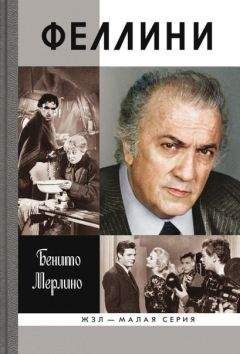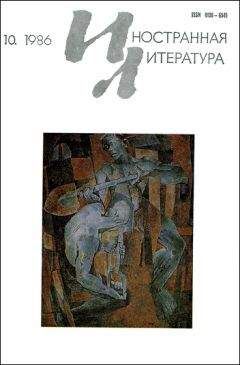Сол Беллоу - Лови момент
...закладывало грудь, вспоминал дальше Вильгельм. Маргарет его выхаживала. У них было две комнаты с мебелью, которую потом описали. Она сидела на кровати и ему читала. Он целыми днями заставлял ее читать, она читала рассказы, стихи, все, что было в доме. Голова у него кружилась, он задыхался, когда пытался курить. На него напяливали фланелевую фуфайку.
О приди, Печаль!
Услада, Печаль!
Как младенца тебя на груди я взлелею! [13]
И почему вдруг вспомнилось? Почему?
— Надо выбрать что-то в настоящий, текущий момент, — говорил Тамкин. — И говорить себе «здесь и сейчас, здесь и сейчас, здесь и сейчас». «Где я?» — «Здесь». — «Когда?» — «Сейчас». Возьмите какой-нибудь предмет или лицо. Кого угодно. «Здесь и сейчас я вижу человека. Здесь и сейчас я вижу мужчину. Здесь и сейчас я вижу мужчину в коричневом костюме. Здесь и сейчас я вижу вельветовую рубашку». Суживайте, суживайте, постепенно, постепенно, не давайте воображению забегать вперед. Придерживайтесь настоящего. Часа, минуты, секунды.
Что это он? Гипнотизирует меня? Морочит? От продажи хочет отвлечь? Ну, положим, я даже верну свои семьсот долларов, все равно — что это мне даст?
Как на молитве, приспустив выношенные, набрякшие веки на свои внушительные глаза, Тамкин приговаривал:
— Здесь и сейчас я вижу пуговицу. Здесь и сейчас я вижу нитку, которой пришита пуговица. Здесь и сейчас я вижу зеленую нитку...
Он исследовал себя сантиметр за сантиметром, демонстрируя Вильгельму, как это успокаивает. А Вильгельм слушал голос Маргарет. И Маргарет без особой охоты читала:
О приди. Печаль!
. . . . . . .
Я хотела слукавить,
Тебя оставить,
Но люблю все сильнее, сильнее.
Тут мистер Раппопорт сдавил ему бедро своей старческой рукой и сказал:
— Как моя пшеница? Вот сволочи, все мне загородили. Я ничего не вижу.
6
Рожь еще поднималась, когда они пошли обедать, лярд оставался как был.
Вот они в кафе с раззолоченным фасадом. Красота — что снаружи, та же внутри. Пища впечатляет роскошью. Цельные рыбины, как картины, забраны в морковные рамы, салаты — как уступчатые парки, как мексиканские пирамиды; солнцами, лунами, звездами сияют кружочки лука, редиски, лимона; невесть как взбита толща крема; пирожные пышны, как грезы кондитера.
— Вы что будете? — спросил Тамкин.
— Да так. Я же плотно позавтракал. Я место поищу. Принесите мне йогурта, крекеров и чашку чая. Я не хочу терять время на еду.
Тамкин сказал:
— Ну поесть-то надо.
Найти свободный столик оказалось не так легко. В это время старики бездельно калякают над чашечкой кофе. Пожилые дамы, все в туши, помаде, побрякушках и хне, с подведенными глазами, подсиненными волосами, хорохорятся и бросают на тебя взгляды, не вяжущиеся с их возрастом. И куда подевались почтенные старушки, которые вязали, и стряпали, и присматривали за внучатами? Бабушка надевала на Вильгельма матроску, качала его на коленях, дула на кашку, говорила: «Адмиралу полагается хорошо кушать». Да что уж теперь вспоминать.
Ему удалось найти столик, и доктор Тамкин принес поднос, уставленный чашками и тарелками. Он взял себе жаркое в горшочке, красную капусту, картошку, большой кусок арбуза, две чашки кофе. Вильгельм даже свой йогурт не мог проглотить. Еще саднило в груди.
Тамкин с ходу втянул его в долгий нудный разговор. То ли морочил Вильгельму голову, чтоб отвлечь от продажи, то ли наверстывал позиции, упущенные, когда Вильгельм поставил его на место с этими его намеками насчет невротического характера? А может, просто молол языком?
— По-моему, вы чересчур беспокоитесь, что там скажет ваша жена, что там скажет ваш отец. Это что? Так важно?
Вильгельм ответил:
— Иной раз может надоесть копаться и разбираться в себе. Всей второй половины жизни не хватит, чтоб очухаться от ошибок, какие понаделал за первую половину.
— Ваш папаша, кажется, говорил мне, что сможет вам оставить кой-какие деньжата.
— Наверно, у него кое-что есть.
— Много?
— Кто знает, — сказал Вильгельм осмотрительно.
— Вам надо прикинуть, как их поместить.
— Я буду слишком немощен, чтоб куда-нибудь их помещать, когда я их получу. Если вообще получу.
— Такие вещи надо тщательно взвешивать. Не промахнитесь.
И он стал разворачивать схемы, как покупаешь облигации, а потом как-то так используешь их в качестве гарантии для покупки чего-то еще и таким образом имеешь на своих деньгах верных двенадцать процентов. Вильгельм упустил детали. Тамкин сказал:
— Если б он сейчас оформил дарственную, вам не пришлось бы платить налог на наследство.
Вильгельм сказал с горечью:
— Мысль о смерти заслоняет от отца все остальное. Он и меня заставляет о ней думать. И если это ему удается — ненавидит меня. Когда я прихожу в отчаяние, конечно, я думаю о деньгах. Но я не хочу, чтоб с ним что-то случилось. Конечно же, я не хочу, чтоб он умирал. (Темные глаза Тамкина сверкнули пронзительно.) Вы не верите. Возможно, это противоречит психологии. Но вот честное слово. Кроме шуток. На эту тему я шутить не хочу. Когда он умрет, я буду обездолен, потому что лишусь отца.
— Любите своего старика?
Вильгельм за это ухватился.
— Конечно, конечно, я его люблю. Мой отец. Моя мать...
И тут что-то рвануло в самом центре души. Вот рыба колотится об лесу, и рука чувствует: живое. Таинственное существо под водой попало из-за голода на крючок и бросается прочь, бьется в корчах. Вильгельм так и не понял, что это билось у него внутри. Не обнаружилось. Ускользнуло.
А Тамкин, мастер смущать и запутывать, уже пошел рассказывать то ли сочинять удивительную историю собственного папаши.
— Он был великий певец, — говорил Тамкин. — Оставил нас, пятерых малышей, влюбившись в оперную певицу, сопрано. Я ничего против него не имел, наоборот, восхищался его жизненным кредо, хотел идти по его стопам. От несчастности в определенном возрасте начинают сохнуть мозги. (Правда, правда! — думал Вильгельм.) Через двадцать лет я производил эксперименты для одной фотофирмы в Рочестере и нашел своего старика. У него оказалось еще пятеро детей. (Вранье, вранье!) Он плакал, ему было стыдно. Я ничего против него не имел. Странно было, конечно.
— Вот и мой отец мне кажется странным, чужим, — сказал Вильгельм и пригорюнился. Где тот свой, близкий человек, каким он был когда-то? Или каким я был когда-то? Кэтрин, та вообще не желает со мной разговаривать — родная сестра! Меня не так огорчает, что папа меня знать не хочет, как обескураживает. Это же чересчур. Просто мир рушится и на обломках — хаос и древняя ночь. Может, папе легче уйти, если мы будем в плохих отношениях? Может, хочется на прощанье хлопнуть дверью: «Будь ты проклят!»? Но почему, думал Вильгельм дальше, папа или кто-то еще обязан меня жалеть? Почему надо жалеть меня, а не кого-то еще? Это, наверно, все моя инфантильность — раз мне что-то надо, значит, вынь да положь.
И Вильгельм стал думать про своих сыновей — как он выглядит в их глазах, что они про него думают. Пока, хорошо еще, можно за бейсбол уцепиться. Но когда он заезжает за ними, чтоб ехать на Эббетс-Филдз, он же на себя не похож. Он делает хорошую мину, но чувствует себя так, будто песка наглотался. Странный свой дом, дикая неловкость. Пес, Пеналь, катается по полу, лает, визжит. Вильгельм делает вид, что все в порядке, но ему страшно тяжело. По дороге во Флэтбуш он вымучивает для мальчиков анекдоты на темы спорта — воспоминания о старых бейсбольных звездах, — дело идет со скрипом. Не знают они, как он их любит. Все Маргарет виновата, она их настраивает. Видите ли, вполне с ним мила, а ведь хочет доконать. В Роксбери ему пришлось объясняться со священником, тот ему не сочувствовал. Что им отдельная личность, им свои принципы надо блюсти. Олив сказала, что выйдет за него, не венчаясь, когда он разведется. А Маргарет не отпускает. Отец Олив, он остеопат и он очень даже ничего, он все понимает, так вот он ему сказал: «Послушайте, я должен дать Олив совет. Она меня спрашивает. Я сам, в общем-то, широких взглядов, но ведь девочке жить в этом городе». Ну и у них с Олив теперь масса сложностей, она стала уже чуть не со страхом ждать его наездов в Роксбери — сама говорила. Он дрожит, как бы не обидеть маленькую смуглую ненаглядную девочку, он ее обожает. В воскресенье, если проспит, она будит его, чуть не плача, что опоздала к обедне. Он ей застегивает резинки, обдергивает платье и комбинацию, даже шляпку ей надевает трясущимися руками, потом мчит ее к церкви, как всегда по забывчивости, на второй скорости и по дороге оправдывается, старается ее утешить. Она выходит за квартал до церкви, чтоб не было сплетен. И все равно она его любит и пошла б за него, если б он добился развода. Но Маргарет, видно, все просекла. Она ему внушает, что на самом-то деле ему развод ни к чему, якобы он боится развода. Он уж кричал: «Возьми себе все, что у меня есть, Маргарет! Отпусти ты меня. Неужели сама ты замуж не хочешь?» Нет. Встречается с другими мужчинами и берет с него деньги. Целью задалась его уморить.