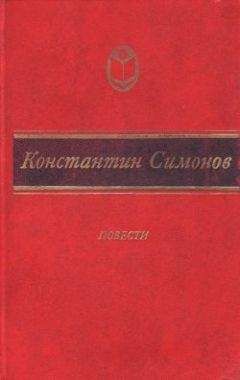Ирен Немировски - Вино одиночества
6
Мадемуазель Роз умерла в тот же вечер в больнице, куда ее привезли полицейские. Она потеряла сознание в каком-то закоулке. Ее опознали по найденному в кармане пальто последнему письму из Франции: на конверте было ее имя.
Каролям сообщили о ее смерти. Элен сказали, что она не мучилась. Ее изношенное сердце просто перестало биться. Скорее всего, от тоски по родине у нее случился очередной приступ бреда... Должно быть, она уже давно была больна.
Мать сказала Элен:
— Бедняжка моя... Она была так к тебе привязана... Мы бы платили ей небольшую ренту, и она могла бы жить спокойно... С другой стороны, после нашего отъезда она оказалась бы в полном одиночестве, мы бы не смогли взять ее с собой... Может, так оно и лучше.
Но вокруг умирало столько людей, что ни у кого, ни тогда, ни после, не нашлось и минутки, чтобы утешить Элен.
Все только повторяли:
— Бедная девочка... Представьте, как она перепугалась... Лишь бы не заболела... Только этого не хватало...
Прошел день, и Элен осталась в пустой комнате наедине с вещами покойной и старой фотографией, на которой ее, двадцатилетнюю, едва можно было различить среди сестер. На снимке ее легкие, как дым, волосы обрамляют лицо, бархатка на шее, тонкая округлая талия затянута поясом с пряжкой. Элен долго смотрела на нее. Она не плакала. Ей казалось, что слезы наполняли ее сердце, тяжелое и твердое, как камень.
Отъезд был назначен на послезавтра. Они уезжали в Финляндию. Кароль должен был отвезти их, а затем вернуться за слитком золота, оставленным у друга в Москве. Макс тоже ехал. Его мать с сестрами бежали на Кавказ, но он отказался следовать за ними. Кароль закрывал на все глаза. Элен слышала, как в соседней комнате родители пересчитывали и зашивали в одежду украшения Беллы. Она прислушивалась к их приглушенному шепоту и позвякиванию золота.
«Если бы я только знала, если бы только сумела понять, что бедняжка сходит с ума... — думала Элен. — Я бы предупредила взрослых... Мы бы позаботились о ней, вылечили ее, и она бы еще была жива...»
Но через секунду она усмехнулась, грустно покачав головой. Господи, да кто бы стал ухаживать за ней? Кому сейчас дело до чьего-то здоровья, чьей-то жизни? Даже если кто-то умер, а кто-то еще жив, кому от этого легче? По городским улицам носили мертвых детей, зашитых в мешки, потому что их было слишком много, чтобы выдавать гроб на каждого. Ей вспомнилось, как несколько дней тому назад, в перерыве между двумя уроками, она, маленькая девочка в передничке, с крупными кудрями и чернильными пятнами на руках, застыла, прильнув бледным лицом с синюшными губами к окну, и, не отводя глаз, наблюдала, как расстреливали человека. Пятеро солдат в шеренге, напротив, у стены, раненый, с перебинтованной, качающейся, как у пьяного, головой, весь в крови мужчина. Он упал, и его унесли, как однажды унесли неизвестную мертвую женщину, завернутую в черную шаль, и как унесли оголодавшую собаку с кровоточащей раной на худом боку, приковылявшую умирать под это же самое окно. Девочка вернулась за парту и, запинаясь, при слабом свете свечи принялась повторять урок:
— Расин изображает людей такими, какие они есть, а Корнель такими, какими они должны быть...
В учебники истории тогда еще не внесли поправки:
— Отца нашего горячо любимого императора Николая Второго звали Александр Третий, он взошел на трон в...
Жизнь, смерть — какие пустяки...
Ее голова тяжелела, но сна она боялась больше всего... Не заснуть, не забыть, не искать утром родное лицо на пустой кровати, когда осознание несчастья еще столь смутно, неясно...
Она сжимала зубы, отворачиваясь от света, но тень пугала ее, рисуя лица со страшными гримасами, бурлящую черную воду... Туман оставил на окне бледную, освещенную лунным светом дымку. Казалось, запах воды просачивался сквозь рамы затворенных окон, сквозь щели паркета, добирался до нее, и, в ужасе оборачиваясь, она видела перед собой пустую постель...
«Иди же, — шептал ей внутренний голос, — позови родителей. Тебя уложат спать в другой комнате, а потом уберут отсюда эту одинокую кровать». Но ей хотелось сохранить хотя бы свою гордость.
«Стало быть, я еще ребенок?.. Стало быть, я боюсь смерти, горя? Боюсь одиночества?.. Нет... Я не буду никого звать на помощь, а тем более их. Они не нужны мне. Я сильнее их! Они никогда не увидят, как я плачу! Они не достойны того, чтобы помогать мне! Я больше никогда не произнесу ее имя... Они не достойны слышать его!»
На следующий день Элен сама перебрала все ящики, сложила в чемодан немногочисленные пожитки мадемуазель Роз; поверх ее белья, книг, блузок, на которых она знала каждую складочку, каждую зашитую дырочку, она положила ее до сих пор пропитанное запахом тумана пальто, которое им вернули; потом закрыла чемодан, повернула ключ и больше никогда не произносила при родных имя мадемуазель Роз.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Сани мчались к едва заметному огоньку, который то скрывался за снежными сугробами, то вновь приветливо мигал. В ту ясную ночь стоял крепкий мороз. Заснеженное поле Финляндии простиралось сплошным ледяным потоком, без единого холмика до самого горизонта, а за ним становилось покатым, словно огибало земной шар.
Элен выехала из Петербурга утром. Ноябрь только начинался, но здесь уже вовсю правила зима. Было безветренно, хотя чувствовалось, как от земли веяло холодом. Студеный воздух радостно устремлялся к черному небу, к звездам, свет которых дрожал, будто свеча на ветру. Их блеск тускнел, как тускнеет зеркало, если слегка подышать на него. Через несколько мгновений эта ледяная дымка исчезала, и они снова сияли, отбрасывая синеватые отблески на снег, словно поблизости развели костер. Стоило только протянуть руку... вот сейчас лошади поравняются с ним, и можно будет дотянуться... Но не тут-то было, упряжка мчалась вперед, а слабое мерцание отступало и, точно подразнивая, продолжало играть бликами.
Они повернули; свет приближался; колокольчики звенели все радостнее. Элен чувствовала, как от быстрой езды в ушах шумит ветер, но вскоре упряжка замедлила ход, и звон снова стал тише и спокойнее.
Она сидела в глубине саней, между отцом и матерью, напротив Макса. Элен отодвинулась от них, открыла закутанное шалью лицо и, словно отпивая большими глотками ледяное вино, ртом глотала воздух. Три года она дышала только затхлым запахом гниющих вод Петербурга, а теперь снова наслаждалась чистым воздухом, наполняющим грудь до самого сердца, которое забилось сильнее и бодрее.
Кароль указал рукой на ближайший огонек:
— Это, наверно, гостиница?
Из-под копыт лошадей летели комья снега, и Элен вдыхала запах сосен, мороза, снежных просторов и ветра — незабываемый аромат севера.
«Как же хорошо», — подумала она.
Гостиница приближалась. Это был простой двухэтажный деревянный дом. Заснеженные ворота со скрипом отворились.
— Вот вы и приехали! — сказал Кароль. — Я пойду выпью водки и обратно.
— Как? Сегодня ночью? — трепеща от радости, воскликнула Белла.
— Да, — ответил Кароль, — так надо. Медлить опасно... Границу могут закрыть с минуты на минуту...
— Ах, что же с нами будет! — вскричала Белла.
Он наклонился и поцеловал ее. Но Элен уже ничего не видела. Она спрыгнула с саней и, сияя от счастья, топала каблуком сапога по твердой земле. Она вдыхала чистый морозный воздух, дыхание зимней ночи; в одном из окон загорелся яркий красный огонек; в пустынной деревне раздалась мелодия вальса.
Элен почувствовала безмятежность и глубокий душевный покой, каких она еще не знала за всю свою, пусть и короткую, жизнь. Ее вдруг охватил детский восторг, и она побежала к дому. Родители разговаривали в дверях со своими друзьями. Через распахнутую дверь до нее доносились слова:
— Революция... Красные... Это продлится как минимум всю зиму...
— Здесь все так спокойно...
Мужской раскатистый голос прогремел:
— Ягнята, бараны, здешние коммунисты... Да хранит вас Господь... У нас есть масло, мука, яйца.
— Муки нет, не придумывай, — сказала женщина. — Если мне скажут, что в раю еще осталась мука, я и тогда не поверю.
Все засмеялись; Элен тихонько вошла в сени. Потом, возвращаясь с улицы, она будет часто снимать здесь свои коньки. Через открытую дверь было видно столовую с большим столом человек на двадцать. Пол, стены и потолок были из светлого дерева, липкого и блестящего, еще пахнувшего свежесрубленной сосной, сок которой течет по глубоким срезам сердцевины. Но больше всего Элен поразило то, что дом был наполнен радостным гулом, — до нее доносились детские крики, молодые голоса — звуки, которые она уже успела позабыть. Дети возвращались с улицы с санками или коньками на плечах; в заснеженных шапках, с горящими от ночного мороза щеками они толпились в сенях. Однако Элен лишь бросила на них пренебрежительный взгляд, покачала головой и по-старушечьи вздохнула. Она была старше. Ей уже исполнилось пятнадцать. Она выросла так быстро, и этот возраст, о котором она мечтала когда-то в Ницце, маленькой девочкой, еще при жизни мадемуазель Роз, пришелся на такие грустные времена... Ее сердце наполнилось болью. Она сделала несколько шагов, открыла дверь и увидела бедно обставленную гостиную, в которой танцевали девушки. Они встретили ее холодным взглядом. Тогда она вернулась в сени, где играли двое светловолосых, пухлощеких, румяных мальчиков. На пороге появился молодой человек, весь в снегу. Дети с криками «папа!» кинулись к нему, и он взял их на руки. Затем дверь открыла красивая женщина с аккуратно уложенными волосами и ласковым, безмятежным выражением лица, она нежно и насмешливо обратилась к молодому человеку: