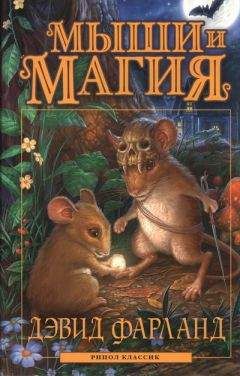Анатолий Жуков - Голова в облаках (Повесть четвертая, последняя)
Феня жалеючи поглядела на выключенного мужа и подумала о младшей своей дочери. Михрютку она родила от заезжего артиста, который глотал ножи, вынимал из ушей яйца, доставал из пустой шляпы голубей. Забавник был. И на Сеню больно похожий, и ростом и обличьем. Феня сидела тогда в первом ряду, смеялась от души и громко хлопала. Все ладони отбила. И надо же: столько народу, полон Дом культуры, в проходах даже стояли, а он глядел на нее одну и кланялся. А на прощанье бросил ей со сцены букет, а в букете записка: вы прекрасны, как летняя звездная ночь, желаю встретиться тогда-то и там-то… Михрютка целиком пошла в него, и все говорят: в отца, в Сеню!
Молодец он, никогда ее не предавал, всех мер мужик, кремень. И нынче вот стоял до последнего, против всех стоял, оди-ин! Боязно и радостно на него глядеть: нет больше такого доброго и смелого на свете. Ведь самому отчаюге и в голову не придет, чтобы дорога сама ехала. Веткин вот не поверил, что ее можно сделать и жить безо всяких машин. И никто другой не поверил. А Сеня твердо знает: можно. Вот бы родить от него сына, чтобы не обрывалась эта ниточка выдумщика, работника, и больше ничего в жизни не надо. Да и есть ли что-нибудь лучше этого?…
Она встала, сунула в сумку Сенин мазутный халат — успеть бы вечером простирнуть, — затолкала амбарную книгу, чертежи. Сеня вопросительно поднял голову. Она улыбнулась ему:
— Не переживай, чего уж теперь, как-нибудь проживем. Жили и дальше проживем. Пошли.
— Домой?
— Куда же. Девчонка там одна, ужин надо варить, поросенок, поди, визжит с голодухи. — и взяла Сеню под руку.
— Горе ты мое веселое, ненаглядное…
На улице их встретили Пелагея и Парфенька Шатуновы. В общей суете после собрания они не стали подходить к Сене и вот терпеливо ждали, пока он оклемается без посторонних глаз, малость придет в себя от новой незадачи. Да и непривычный он был, в нарядном-то костюме, при галстуке, начальники с ним за ручку, по имени-отчеству. А мы все Сеня да Сеня. А какой Сеня, когда на пенсию скоро…
— Прости нас, Семен Петрович, христа ради, за сына, — сказала грустно Пелагея, кусая кончик головного платка. — Выляпал все принародно, даже не подумал, что во вред тебе, соседу.
— Такой уж он у нас вышел, Сеня, — присоединился Парфенька и снял с пегой от седины головы кепку с пуговкой на вершинке. — Что на уме, то и на языке. Неужто так можно при чужих-то людях! Если не согласный, скажи наедине, чтобы не ославить, не обидеть принародно.
Сеня пожал плечами необмятого пиджака и пошел, привыкая к новым туфлям, в мастерскую за велосипедом. Высокий каблук ему не мешал — идти легче, всегда под горку, и уверенней, потому что стал выше и видишь дальше. Бабы давно до этого додумались, канальи.
Солнце уже скатилось к самому краю водохранилища, вызолотив гладкое небо и дальний плес под ним, вот-вот плюхнется в воду остудиться. Справа над четырьмя прибрежными дубами — остатком старой дубравы — летали безмолвные грачи, по-над водой реяли, тоже будто немые, чайки: гомон полумиллионного стада утят на выгульных дворах и прибрежных мелководьях плотно глушил все другие звуки.
Сеня привел своего скрипучего, с вихляющими колесами коня, взял у Фени сумку и, повесив ее на руль, направился по асфальтовой дорожке к воротам. Парфенька пошел рядом с ним, Феня с Пелагеей позади.
— А Башмаков-то как разорялся! — все еще переживала за мужа Феня. — Бюрократ дубовый, извини-подвинься, понимаешь! С младости активничает, как Титков, а в большие начальники тоже не продрался и злится на всех.
— Бодливой корове бог рогов не дает, — поддакнула Пелагея.
— Что правда, то правда, Полюшка. Но от кого не ждали напасти — это от Заботкина. Хозяйственный ведь мужик, а тоже не принял, не сойдемся, сказал. Из-за чего?
— Из-за машины, — сказала Пелагея. — Он «Москвича» со стеклянным багажником восейка купил, ему гладкая дорога надобна, а твой Сеня отменяет. И Мытарин из-за того же. На мотоциклете-то он как черт носится, а для непогоды «козла» с брезентовой кабинкой держит…
А Парфенька поддерживал Сеню:
— Я почему тебя уважаю, соседушка, это потому, что ты тоже сперва для народу радеешь, а потом для себя. Я, как ты доподлинно знаешь, тоже всю жисть мечтаю накормить Хмелевку рыбой. Чтобы свежей и до отвалу, И ведь ловил, Сеня, кормил, правда?
— Ага, — кивнул Сеня, ведя за рога велосипед. — Много ловил и другим давал.
— Вот-вот, много. И откроюсь тебе, соседушка, как на духу. — Парфенька оглянулся на занятых разговором баб, прошептал доверительно: — Возмечтал такую рыбу поймать, чтоб большая-пребольшая, без конца-краю, без размеров, чтобы на всех хватило и никто не был обделен. Веришь мне?
— Ага. Только как вытащишь такую?
— А ты на что, Сень, неужто не подмогнешь? Технику подходящую выдумаешь, большой кран, и вытянем.
— Надо знать точный вес тела рыбы. Без знания веса нельзя добиться соответствия мощной грузоподъемности.
— Про вес я не думал.
— Подумай. В нашем деле точность — серьезный рычаг успешного фактора, а то не вытащим.
— А поймаю, как думаешь?
— Поймаешь. Всякая добрая мечта на благо всех сбывается.
За воротами они сошли с асфальтовой дороги на широкую тропу вдоль берегового косогора, где, спрямляя путь, ходили и ездили на велосипедах все утководы. Жесткая свистун-трава по бугру уже посветлела, выжженная солнцем, зеленели лишь редкие кусты татарника с малиновыми тюбетейками на вершинках.
— Цветет, — сказал Парфенька. — Значит, земляника поспела. Давай сгоняем на бударке к Монаху за разрешеньем, а то вон какая сушь, в лес не пустит.
— Он в больнице, — сказал Сеня.
— Что стряслось?
— Дышать забывает.
— Как так?
— Эдак: дышит, дышит, а потом задумается о природе и про все позабудет в мысленном рассуждении, синеть начинает, кашлять.
— Беда-то какая! Не дай бог, лишимся такого заступника земли…
А жены позади уже разрядились, умолкли и слушали мужей со спокойным удовлетворением состоятельных хозяек. Потом Феня не сдержала довольства:
— Мужики-то у нас, Полюшка, как братья родные! Что по росту-обличью, что по разуму.
— Да-а, — со вздохом отозвалась Пелагея. — Без нас пропали бы оба.
— А мы без них?
— И мы тоже. Куда мы без них!
И обе засмеялись, довольные таким раскладом судьбы, трудной и нескучной.
XII
Благие надежды начальства не оправдались. После разгрома проектной магистрали Сеня не вышел из запоя изобретательства, не вернулся к заботам уткофермы и мелкой рационализации, но «задумался» еще глубже и неотступней. Должно быть, потому, что схватившая его тема дороги была не простая, а первоглавная, корневая. Это с электропрялкой, охранительной машиной или автоснегоходом решаешь задачи технической локальности, а если взялся за навозоуборшик, например, или за передвижную доильную установку, тут встает уже квадратная сложность решения. Ведь стыкуешь в тесноту соединения объекты разнородной строптивости: промышленность — с биологией, холодный неумолимый механизм — с теплой трепетностью чуткого мускула, жесткое — с гибким, одушевленное — с бездушным. Правда, категорической дурой бездушности ни серьезную машину, ни другой какой механизм скромной мирности назвать нельзя, человек, творя их, влагает в напряжении всю свою душу, но механизмы принимают только малую частицу ее, только функциональную душевность того дела, для которого человек их создал. Что же надо сделать, чтобы сотворить душевно емкий механизм, способный к приятию от человека если не всей души, то большей, самой деятельной ее части? Подумать подумаешь, а ответ скоро не скажешь.
Работал Сеня не то чтобы плохо, он вообще не работал — присутствовал с отсутствующим видом в инкубаториях, брудергаузах или утятниках — маточниках, но был еще бестолковей новичка Пети Иванцова, и все техническое обслуживание механизмов волок, выбиваясь из сил, слесарь Натальин.
Вера Анатольевна с трудом терпела такое безобразие и наконец не выдержала, пришла к Сене на дом. Все разговоры на ферме были зряшными: она просто не могла достучаться до его разума, до осознания непозволительности такого поведения. Долго сомневалась, стоит ли жаловаться Фене, но сколько же можно! В конце концов деньги нам платят за работу, а не за пассивную созерцательность. Ведь целую неделю он ходит как американский наблюдатель и даже не соизволит дать совет слесарю, а потребуешь объяснений — бормочет что-то невразумительное, косноязычное, с претензией на наукообразность.
Феня после работы успела сготовить ужин, покормила Сеню и Михрютку, потом поросенка и вот сидела в задней комнате у окна, штопала свой рабочий халат. Была она в сломанных очках, перевязанных на переносице черной изолентой, в замызганном фартуке, непричесанная и едва увидела Веру Анатольевну, красивую и требовательную, уже в вечернем платье, с распущенными по плечам волосами, с блестящими во все очки глазами, все в ней ревниво возмутилось, обидчиво закричало, затосковало. И она еще должна была выслушивать выговор за мужа. Феня вскочила, сорвала свои очки и, не раздумывая, спустила кобеля на начальницу: