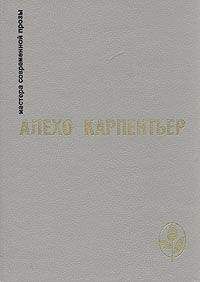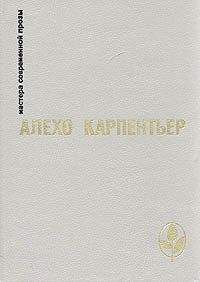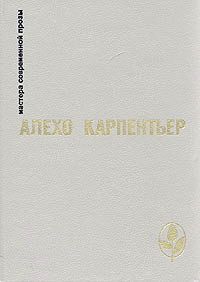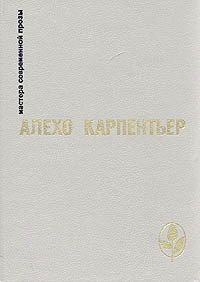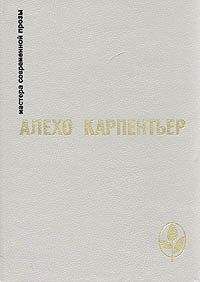Алехо Карпентьер - Превратности метода
Здоровье для меня самое главное. Я не желаю быть одноруким. Если бы еще потерять руку при Лепанто[122]… А так — чего ради? Идиотство. К тому же без своей; правой руки я не могу положиться даже на того, кто меня искренне любит. Ибо, когда я на родине, где меня очень любит народ, я лишь тогда чувствую себя спокойным, уверенным, твердым на приемах и обедах, когда знаю, что эта штучка со мной». И, кивнув в сторону своего левого плеча, где под мышкой прятался браунинг, Глава Нации не упустил случая воздать должное чуткости Гашетки и красоте Рукоятки «этой штучки». Когда он говорил, в его голосе звучала такая нежность, с какой лишь влюбленный может говорить о достоинствах своей любимой: она и верна, и послушна, и надежна, и изящна в пропорциях, приятна в обращении, изысканна и красива вплоть до маленького роти… то бишь дула; разит наповал, хотя и такая крошка, а на рукоятке в качестве украшения выгравирован Национальный герб. Мажордомша Эльмира с поистине материнской любовью холила и каждодневно чистила это оружие, когда хозяин снимал его, чтобы принять ванну, и тотчас возвращала, перезаряженное и готовое к употреблению, когда вытирала своего господина широким мохнатым полотенцем, — из тех, что Офелия покупала для отца в Ла Мезон де Блан… Таким образом, отказавшись от электрических приборов, изобретений, новейших методов и столов пыток американских больниц, похожих, по его мнению, на огромные исправительные тюрьмы, Глава Нации вступил однажды утром на борт «Ла Франс», чтобы после стольких напастей и тревог вкусить прелести парижского лета, в том году такого жаркого и солнцеобильного, какого, по сообщениям газет, не наблюдалось с середины прошлого века.
Часть третья
Все истины могут быть правильно поняты, но не всеми, — по причине предубеждений.
ДекартVI
Путешественников встретил на Gare du Nord[123] Чоло Мендоса — желтые перчатки, гардения в петлице и, как всегда, летом или зимою, серые гамаши. Получив радиограмму с борта парохода, он срочно вернулся из Виши, где гармоничное сочетание ежедневных водных процедур с ежевечерними винными возлияниями и разумное чередование «виши» с виски «бурбон» омолодили его почти до неузнаваемости. Остальные служащие посольства проводили свои летние отпуска с детьми в Трувийе или Аркашоне. Офелия была в Зальцбурге на моцартовском фестивале, который открывался оперой «Cosi fan tutte»[124].
Посол изобразил на своем лице крайнюю тревогу при виде Главы Нации с рукой на перевязи — безжизненная длань покоилась в повязанном вокруг шеи кашемировом шарфе. «Боли мучительны, но ничего особо опасного нет», — пояснил Перальта. Здешние доктора с их далеко ушедшей вперед медициной одолеют недуг. А кроме того, новая обстановка, вечное движение, всегдашнее веселье, французская цивилизация… Стоит тут только вдохнуть воздух — вот так: вдох, выдох, расправить грудь… — и уже чувствуешь себя лучше. Давно известно, что душевное состояние определяет физическое самочувствие, и боль лишь усиливается, если сосредоточить на ней свое внимание, ибо в конечном итоге все современные психологи, равно как и Эпикур когда-то, придерживаются мнения, что… И т. д., и т. п. «Однако трудно разговаривать на вокзале — шум поездов, свистки, суета носильщиков, — и ты, Чоло, иди-ка лучше вперед с багажом, а мы с Перальтой пойдем помедленнее: ноги затекли от долгого сидения…»
И Глава Нации в сопровождении своего секретаря зашел в знакомое бистро фламандского стиля, где можно выпить горького пива «хугаарде» или крепкого «ламбика», доведенного «до кипения» раскаленным гвоздем, опущенным в его пену. Вновь прибывшие бы: ли готовы подчиниться знакомому ритму беспечной жизни и направиться куда глаза глядят: от пивной «У Пантеона» к тюльпановым луковицам набережной Межисри, от книжного магазина оккультных наук и черной магии Шакорнака (гороскопы, наставления для начинающих, писания Станислава де Гойта…) к гимнастическому залу, где еще практиковался благородный вид боксирования в перчатках и ботинках с правом удара ногой по лицу; от небесно-голубого тента прилавков «Предметы культа Нотр Дам де Виктуар» к Рю Сент-Аполлин, 25 — «Под Зеркалами», где по утрам частенько «несла караул» одна «пышная блондинка, большая мастерица по части обхождения а-ля герцог д'Омаль, что можно сравнить с упражнениями в забавном комфортабельном манеже для лежащих всадников.
В барах на цинковых стойках и на полках за стойками все говорило на языках запаха и вкуса: сдобные булочки в маленьких плетенках, вздыбленные складками пирожные в, квадратных стеклянных вазах, похожие на раковины Компостелы; берсальерская эстетика бутылок «чинзано», этикетки «дюбоннэ», сверкающая керамика бутылей голландского джина, лестницы деревянных полок, запруженных бочонками виноградной водки; благоухание — нечто среднее между смолой, и апельсиновой коркой — «амера пикона».
«Здесь получше, чем в Пещере с Мумиями», — пробурчал Глава Нации. И, усевшись наконец в авто с открытым верхом., велел везти себя на Рю де Тильзит. «Париж всегда Париж», — глубокомысленно изрек его секретарь, когда вдали показались кони Марли[125] и неуклюже-великолепная громада Триумфальной арки…
Удобно устроившись, утонув в своем кожаном кресле, Глава Нации почувствовал органическую потребность восстановить былые связи с городом. Он позвонил по телефону на Кэ Конти, где бывали такие приятные музыкальные вечера, но мадам, не оказалось, дома. Позвонил скрипачу Морелю, но тот поздравил его с приездом поспешно и сухо, как человек, желающий скорее окончить разговор. Позвонил Луизе де Морнан, экономка которой, заставив его прождать у трубки сверх всякого приличия, изволила наконец сообщить, что прекрасная дама на время отлучилась из Парижа. Позвонил Бришо[126], профессору Сорбонны. «Я почти слеп, — сказал тот, — но газеты мне читают». И повесил трубку. «Хамом был, хамом и остался», — подумал Глава Нации, несколько опешив от такого странного ответа и отыскивая следующий номер в своей книжечке. Он звонил, звонил, звонил; тому, другому. И чувствовал, что голоса — впрочем, за исключением его портного и парикмахера, — как: то странно изменились, и по тону и по манере говорить. Тогда он подумал о д'Аннунцио, который должен был быть». Париже, но служанка сказала, что её хозяин уехал в Италию. Однако из трубки вдруг вырвался голос поэта, который опроверг сие утверждение и стал яростно поносить своих кредиторов, буквально осаждавших его дом. Да, именно осаждавших, как полчища каких-то эринний, эвменид, фурий[127] или как псы Персефоны, здесь, везде, всюду — в бистро напротив, в табачной лавке за углом, в ближайших булочных, — они сторожат его дверь, высматривают, ждут, когда он выйдет, чтобы наброситься на него и растерзать, опозорить своими наглейшими требованиями денет. «О, чего бы я только не дал, чтобы обладать правами латиноамериканского тирана и очистить Рю Жоффруа л'Анье от проходимцев и еретиков, как это сделал в Нуэва Кордобе мой благородный друг, позвонивший мне!..» Не желая подставлять себя под следующий удар — видимо, не последний, — Глава Нации стал постукивать по трубке своей авторучкой, приговаривая: «Ne coupez pas, Mademoiselle, ne compez pas…»[128] — и нажал на рычажок, оборвав собеседника на полуфразе, дабы тот подумал, что нарушилась связь. Однако сам он встревожился и расстроился. Явно не знал, как оценить слово «тиран», ибо поэт всегда выбирал «образно-призрачный», не банальный способ выражения. А что касается Нуэва Кордобы, он даже представить себе не мог, что д'Аннунцио мог знать имя этого города. В чем же дело? Видимо, следует позвонить Рейнальдо. Ану, милому в любезному «земляку» из Пуэрто Кабельо.
Композитор не замедлил внять телефонному зову и ответить на своем правильном испанском языке; с легким венесуэльским акцентом и отдельными словами, несомненно, рио-платскрго происхождения, появление которых в, своем лексиконе он не считал нужным объяснять. После обмена обычными приветствиями Рейнальдо своим тусклым голосом ениво и равнодушно, будто рассказывая о чем-то совсем постороннем сообщил ему, что «Матэн» опубликовала серию страшнейших репортажей о событиях там и что его «земляк» назван «Мясником из Нуэва Кордобы».
Фотографии мосье Гарсена заняли три или четыре колонки, демонстрируя трупы, завалившие город, трупы, подвешенные на крючьях в городских бойнях под мышки, за ребра и подбородки, пронзенные пиками, вилами, саблями в ножами. Были там и женщины, одни — отбивающиеся от солдат, нагишом бегущие по улицам под градом штыковых ударов. Другие — изнасилованные под сенью храма. Третьи — распростертые во дворах. И горняки, сотнями расстреливаемые у стен кладбища под грохот военных оркестров и взвизги блестящих кларнетов. А рядом — фотографии Главы Нации в походном мундире: в профиль, вполоборота, иногда спиной, — но и тогда его можно было узнать по фигуре весьма внушительных размеров, — отдающего приказ бить из пушек по национальному сокровищу, по Собору Святой Девы («Не я приказывал, а Хофман», — протестовал Глава), по этому чуду архитектуры барокко, по «Нотр-Дам Нового Света», как сказано в газете. И все же самым неприятным было то, что его сын Марк Антоний, давший интервью журналисту дня два назад на пляжах Лидо, где он проводил время в компании одной Арсинои из «Комеди Франсез»[129], вместо того чтобы встать на защиту отца, заявил: «Je n’ajque faire de ces embrouillements sudamericains…»[130]