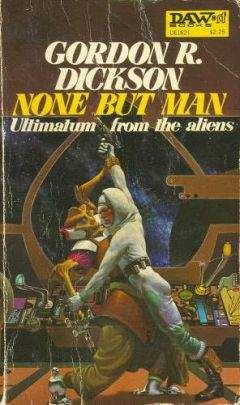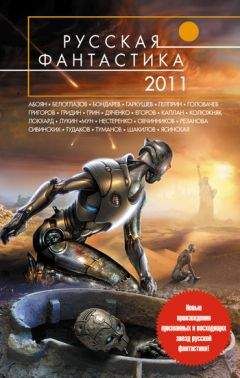Лев Александров - Две жизни
— В Ташкент, наверное. Все они теперь в Ташкент драпают.
Целый день сегодня неспокойно. Борис не знает куда себя девать. В голове все время вертится одна строчка: "К востоку от голода умирать". Так всегда бывает. Стихи начинаются с одной строчки, и не обязательно с первой. Если строка не дает покоя, надо писать. Иначе не отделаться. К вечеру написал. И эпиграф — из любимого начала «Возмездия». Вся поэма у Блока не получилась. Растянуто, сыро, недаром не смог кончить. Но начало — гениально. Вечером прочел Елизавете Тимофеевне.
"Еще чернее и огромней
Тень люциферова крыла"
А.БлокОбычное наше внезапно прервано,
Чернеет, растет Люциферова тень.
Это написано в сорок первом,
В дождливый августовский день.
В окно посмотришь, — и все спокойно.
Калошами хлюпая, люди идут,
Как будто давно отшумели войны,
Как будто бы это в прошлом году.
Над нами нависло, грозя, неизбежное,
И понято каждым, и в сердце любом:
Сегодня рушится наше прежнее
В протяжном вое свистящих бомб.
Картина любого горящего города
Кровавым туманом стоит в голове.
Забыли люди когда-то гордое
Имя, а ныне позор — человек.
В жужжании смерти, над нами летающей,
Сползла оболочка, и вот теперь
Остался, злобный, нерассуждающий,
Дрожащий от ужаса дикий зверь.
Меж строк наших сводок читая победы
Сумевших Европу ногами попрать,
Сотни и тысячи идут и едут
К востоку от голода умирать.
И я, настоящим захваченный властно,
Стараюсь на все события эти
Смотреть и думать, смотреть бесстрастно,
Смотреть, как из мглы столетий.
И все, что видел, и все, что слышал,
И все, что думал, умом обниму,
Чтобы понять — как это вышло?
Чтобы понять — почему?
— А знаешь, Борюнчик, это не так плохо написано. Зря только Горького почти процитировал. Плохой был писатель и плохой человек. К нам завтра зайдет Николай Венедиктович. Я знаю, ты не любишь, но все-таки, может быть ему прочтешь? Он поэзию понимает.
— Нет, не прочту. Не проси, а то и тебе читать не буду.
Елизавета Тимофеевна обиделась.
— Сноб ты, Боря. Моего друга (да и твоего, он тебя с пеленок знает) не удостаиваешь, а своему Лютикову, карьеристу этому, читаешь. Уж ему бы я не стала такие стихи читать. Понадобится — донесет. Или ты ему веришь? Николай Венедиктович не только стихи чувствует, он и мысли твои поймет. А что и мне читать не будешь, стыдно со мной так говорить.
— Прости, мама. Я плохо сказал. Не могу я читать ему свои стихи, настоящие свои стихи. Ведь всякие поздравительные в дни рожденья я читал всем гостям, и ему читал. А эти не могу. Тебе могу, а ему не могу. Пусть он твой друг, не могу. Лютикову, между прочим, я эти стихи не читал.
Больше об этом не разговаривали.
5.14 октября. Занятий уже нет. Объявлено: университет эвакуируется не то в Свердловск, не то в Казань, не то в Среднюю Азию. Но сперва почти наверняка в Свердловск. Кто может, добирайтесь сами. В эшелонах мест все равно не хватит. Студенты часами слонялись по университетским корпусам. По радио только музыка, никто ничего не знает. Слухи, полностью друг другу противоречащие, сменяются калейдоскопически.
— Слыхал? Говорят, немецкие танки в Кунцеве. Ждут, когда пехота подойдет.
— Кто сказал?
— Это я по сети ОБС слышал.
Сеть ОБС (Одна Баба Сказала) стала в эти дни единственным источником новостей.
— Ребята — бегом на Садовое Кольцо. Солдаты идут, Армия из Москвы уходит.
Борис побежал со всеми. По Садовому Кольцу, от Смоленской к Земляному валу, шла не армия — толпа. Шли молча. усталые, многие раненные, голова в бинтах или рука на перевязи, почти все солдаты, лишь изредка виднелись сержантские треугольники или лейтенантские кубари. Винтовки не у каждого. Пулеметов, орудий Борис не видел.
Люди на тротуаре угрюмо смотрели.
— На Владимирку идут.
— У Нижнего на Волге новую линию обороны строить будут. На дальних подступах к Москве. На ближних-то их, видишь, расколошматили.
— Стыдно, гражданка, так говорить. Просто смена частей. А вы панику распространяете. Доложу, кому следует, за это, знаете, по законам военного времени…
— Кому доложишь? Кому докладывать, давно в Ташкенте порядки наводят. Ты чего здесь стоишь? Мужик здоровый. Чем «докладывать», воевал бы. Может тогда бы немцы до Москвы не доперли.
Двое суток шли через Москву разбитые дивизии. Шестнадцатого у Бориса дома ночевали несколько однокурсников. Два парня и девушка. Из провинции, общежитие закрыто. Собрались идти пешком до Горького, а там видно будет.
Вечером долго сидели. Выпили, конечно. У Елизаветы Тимофеевны графинчик всегда найдется. Шутили: куда деваться? Немцы так и будут маршировать с запада на восток, а там, глядишь, японцы пойдут с востока на запад. Полушутя, полусерьезно условились — встретимся через месяц после войны в Калькутте на главной площади. Елизавета Тимофеевна в разговор не вмешивалась, слушала молча. В два часа ночи сказала:
— Боже мой, куда вы идете? Дети ведь, сущие дети. Ладно, дай Бог, не пропадете. А сейчас хватит. Собираетесь в шесть утра выйти, так надо хоть три часа поспать.
Борис проводил ребят до Абельмановской заставы. По дороге, у Земляного, как условились, вышла Ира. Последние недели у Бориса с нею все как будто сначала.
На Абельмановской народу — как демонстрация. Рюкзаки, детские коляски, чаще с барахлом, чем с детьми. Семья: пожилой мужчина с трудом толкает тяжело нагруженную тачку, за ним старуха и молодая женщина с двумя мальчишками лет пяти-шести. Непрерывно гудя, ползет, разгоняя толпу, грузовик с покрытым брезентом кузовом. Из-под брезента мебель, тюки, женские и детские лица. Рядом с шофером мужчина в военном кителе без петлиц.
Простились. Снова пошутили о встрече в Калькутте. Перецеловались. Ира немножко всплакнула.
Обратно шли медленно. Ира взяла Бориса под руку, тесно прижалась. Долго молчали. Потом Борис, глядя перед собой, сказал:
— Когда все это кончится, поженимся.
— Конечно, поженимся.
Еще помолчали.
— Пойдем сейчас к нам, я тебя с мамой познакомлю.
— Пойдем.
Пили чай. Говорили о войне, об эвакуации, о том, что никуда из Москвы не поедут. Противно завыли сирены: "Граждане, воздушная тревога!"
— Мы в убежище не ходим. Вы, Ира, если боитесь, можете спуститься. У нас дома большой подвал. Только неизвестно, где опаснее.
— Я не боюсь.
Хлопушки зениток где-то далеко. Через полчаса отбой. Борис проводил Иру. Вернулся.
— Знаешь, мама, мы с Ирой решили пожениться. Когда немного успокоится.
— Я так и поняла. Это, Боря, только тебе решать. Да и решать сейчас нечего. Кто знает, когда, как ты говоришь, немного успокоится.
— А тебе Ира понравилась?
— Красивая. Не такая красивая, как Сонечка, но красивая. Только она тебя не любит. И ты ее не любишь, так — влюблен по- мальчишески.
— Зачем ты это говоришь? Откуда ты знаешь?
— Конечно, говорю я это напрасно. Ты все равно не поверишь. А я знаю точно. Поумнеешь, сам любовь от влюбленности и от других чувств отличать будешь.
— Каких других чувств?
— Будто не понимаешь. У твоей Ирочки фигура хорошая.
— Знаешь, мама, я и говорить с тобой не хочу.
— И не надо, Боря. Не бойся, я с кем хочешь уживусь. Так что женись, пожалуйста, когда "немножко успокоится".
Через несколько дней Бориса вызвали на факультет. Университет был пуст. Преподаватели, студенты эвакуировались в Свердловск. Кое-какое оборудование увезли, но в лабораториях, практикумах — посуда, приборы.
С Биофака послали в комаудиторию. Там собралось человек тридцать, одни ребята. Павел Рыжиков с Истфака, председатель университетского комитета ВЛКСМ, глаза красные, небритый, встал перед кафедрой.
— Значит так, ребята. Мы собрали всех оставшихся в Москве студентов мужского пола. Вы мобилизуетесь в военизированную пожарную охрану МГУ. Будете жить в университете на казарменном положении. Заступите сегодня вечером. Сейчас разбейтесь на тройки, выберете в каждой тройке старшего. Старшие подойдут к столу, я запишу, распределю по объектам, поясню обязанности. Впрочем, обязанности и так ясны, не маленькие. Во время воздушной тревоги — на крыше зажигалки тушить, ящики с песком приготовлены, на крыши затащите сами. Лопаты, рукавицы, ключи от всех корпусов получите. Связь телефонная. Список телефонов дам старшим. Обстановка, сами понимаете, тревожная. Никого посторонних в корпуса не пускать. Подозрительных задерживать, доставлять в штаб охраны. Штаб — в кабинете ректора. Вопросы есть?
С места:
— Что значит «военизированные»? Оружие дадите?
— Оружия нет. Мне выдали два нагана. Один у меня, другой у дежурного по университету. Ничего, в крайнем случае лопатами Еще вопросы? Нет? Тогда начинайте.