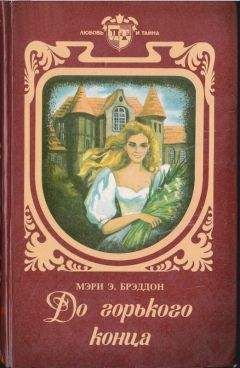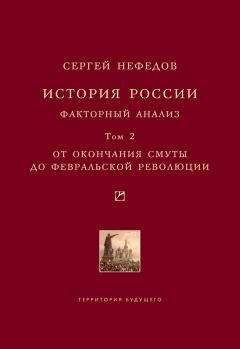Иштван Эркень - Путь к гротеску
Скажем, вчерашний день меньше всего напоминал безмятежный девичий сон; и все же я не сдалась! А ведь замок в ящике Ольгиного стола был самый обычный, и подобрать к нему ключ не составило бы труда. Да чего там: ящик преспокойно можно было открыть с помощью ножа для разрезания бумаги, а еще проще было бы часов в пять позвонить Ольге в кафе «Артист». Но я не сделала себе поблажки. Человек должен придерживаться взятой на себя роли: если ты врач — будь врачом, если больной — то и веди себя, как положено больному. Не стану я устраивать себе протекцию у себя самой же. Тихо-спокойно дождусь утра понедельника.
После обеда я отправилась в кино, а потом ухитрилась целый час проторчать в кондитерской; вечер я провела в семье доктора Шрея и вместе с детишками от начала до конца смотрела телевизионную программу. До полуночи мне удалось занять себя чтением, а затем — с помощью снотворного — я уснула. Наутро, еще не проснувшись окончательно, я на мгновение поддалась было слабости. Мне подумалось, что не так уж велика статистическая вероятность того, чтобы опухоль у двадцатичетырехлетнего человека непременно оказалась злокачественной. В наказание за собственную слабость — только не смейтесь надо мной! — я не пошла пить кофе в буфет, а выхлебала причитающуюся мне казенную бурду.
При таком душевном состоянии работа бывает как нельзя кстати. Было даже досадно, что день моего дежурства оказался спокойным и в нашем терапевтическом отделении не произошло ничего чрезвычайного. Часов в десять у подъезда больницы остановился «крайслер»: товарищ Ш., направлявшийся на торжественное открытие какой-то пограничной казармы, провел с час у мамы Розы. В половине двенадцатого я начала обход.
Все шло как положено, и лишь в самой себе я подметила некий сдвиг в восприятии. К примеру, больные, которых я лечила уже не одну неделю, были словно не те, что вчера или позавчера. Лишь температурные таблицы у них оставались без изменений, а вот лица, голоса, взгляды были другие. Должно быть, я все же как-то обмякла внутри, и они моментально усекли это, потому что больные — как малые дети — точно чувствуют границу допустимого панибратства. Дядюшка Сечеди решил во что бы то ни стало скормить мне чудовищно сухой пирог с черешней. Угощал он с такой назойливостью, что мне пришлось жевать этот пирог прямо тут же, стоя в изножье его постели. И двенадцать человек больных с молчаливым вниманием взирали, как я ем; такого со мной еще не случалось. Я — врач, а не исповедник и всегда старалась в своих отношениях с пациентами придерживаться существа дела или, во всяком случае, не слишком отклоняться от него. Однако сегодня старый трепач Холлендер играючи попрал мой с грехом пополам нажитый авторитет. Он во всеуслышание заявил, что у меня красивые ноги и я ему нравлюсь. Что на моем месте он носил бы волосы распущенными, а не закалывал бы их в пучок. И что, если бы ему удалось развестись с женой, а также если бы я вернула ему былую мужскую силу, он готов был бы вступить со мной в законный брак. Я уже перешла в соседнюю палату, когда спохватилась, что на лице у меня до сих пор сияет улыбка. Чтобы сохранить хотя бы жалкие остатки своего докторского авторитета, я подсократила обход.
До шести вечера ничего не произошло. А в шесть часов «скорая помощь» доставила старого крестьянина с легочной эмболией. Я осмотрела больного; подыскивать ему койку уже не имело смысла, и я распорядилась просто переложить его на другие носилки. Пульс едва прощупывался, и жить ему оставалось считанные минуты.
Я присела возле носилок. Время от времени он приходил в сознание и тогда просил:
— Помогите мне, барышня.
И ждал, не сводя с меня глаз. Но сделать уже ничего было нельзя. Взгляд больного постепенно угасал. А затем опять начались удушье, хрипы, конвульсии. Я распорядилась вызвать доктора Шрея, но к тому времени, как он примчался, запыхавшись и с крупными каплями пота на лысой макушке, больной безжизненно раскинул в стороны руки-ноги и затих. Доктор Шрей осмотрел его, пожал плечами и ушел домой.
А потом опять раздался этот булькающий хрип. Крестьянин был поджарый, но рослый; ноги его свисали с носилок. Он никак не мог умереть. Вместо дыхания из груди его вырывался свистящий хрип, а пульса, по сути говоря, уже не было. Он еще раз открыл глаза, но больше так и не приходил в себя. Сознание его уже было мертво, лишь тело продолжало борьбу. Зачем я сидела возле него? Не знаю. Помочь ему я ничем не могла, и присутствие мое было излишним. В высшей степени неразумно было сидеть там, за ширмой, и сложа руки ждать. Чего я ждала, на что надеялась? Меня вызвали в отделение, и все же я осталась с ним. Нащупала пульс. Бьется. Перестал. Опять забился. Мне казалось, что ему остается всего несколько минут, а он прожил еще час с четвертью. В нем была какая-то сверхчеловеческая сила. Каждая клеточка его существа была проникнута железной волей и какой-то неистребимой жаждой жизни. А я сидела там, как жалкая пылинка, как неодушевленный предмет — ничто и никто.
Наконец вместе с последним, ужасным, исполненным какого-то возмущения хрипом жизнь ушла из него. Я просидела рядом еще десять минут, затем поднялась. И без конца оборачивалась назад: а вдруг да он опять попытается ожить? Но он уже побелел как стена. Я знала, что предпринять ничего было нельзя.
Доктор Шрей — свидетель, он тоже осмотрел умирающего. И все же я чувствовала себя виноватой. Я понимала, что это — чушь несусветная, и все же у меня было ощущение, будто каким-то опосредованным образом я являюсь убийцей этого человека.
Старшая сестра Белла второй раз пришла за мной: Холлендер, с его склонностью к истерии, жаловался на колики.
— Мне некогда, — сказала я. — Дайте ему, что хотите, лишь бы он замолчал.
Я поднялась к маме Розе.
В палате застала ее одну. Ее сопалатница, пожилая оперная певица, вкупе со своей язвой двенадцатиперстной кишки и посетителями-родственниками удалилась в конец коридора и, спрятавшись за приотворенной дверью в уборную, уписывала за обе щеки холодный куриный паприкаш.
— Я хочу вам кое-что сказать, мама Роза, — начала я.
— Сперва я, — перебила она меня. — Сюда заезжал мой сын.
— Да, я видела его машину.
— Так я замолвила словечко, — сказала мама Роза. — Дело улажено.
Оказалось, что мама Роза еще не успела вмешаться, как товарищ Ш. по собственной инициативе поговорил с министром здравоохранения, который уже и сам решил было вернуть Сонтага — поскольку за ним тяжких провинностей не водилось — обратно в столицу. Правда, не на прежнее место, а в больницу Яноша.
— В больницу святого Яноша? — переспросила я.
— Да. А разве господин профессор этому не обрадуется?
— Еще как обрадуется! — сказала я.
— Ну и ладно, — кивнула мама Роза. — А вы что хотели мне сказать, милочка?
Тут мне вспомнилось, что больного положено щадить. Но если слабое сердце, подумала я, способно выносить притворство и равнодушие, приспособленчество и корыстолюбие, то отчего бы ему не выдержать правду?
— Милая мама Роза, — сказала я, — из вас тут делают дурочку.
Она села в постели и уставилась на меня.
— И вы сами позволяете это, — добавила я.
Худые лица гораздо лучше умеют хранить тайну, чем лица полные. Так и с мамой Розой: несмотря на толстый слой жировых подушек, по ее лицу я с абсолютной точностью могла прочесть все, что творилось у нее в душе. Она уставилась в темноту окна, то бишь в никуда. Но из этой темноты, из этого «ниоткуда», словно под действием проявителя, возник групповой портрет «великой пятерки». Кроме Сонтага там были и Виллибальд, и Бокша, который завораживал больных светской легкостью своих манер, и Петц, и Лорант, достигавшие той же цели: один — с помощью солдатской грубости, другой — благодаря маске великого Пастера. Мама Роза какое-то время любовалась этим групповым снимком, а затем взгляд ее вернулся из ниоткуда.
— И эта катетеризация, — спросила она каким-то неожиданно тонким голоском, — вовсе ничего не дает?
— Это очень важное обследование, — пояснила я. — Но вашего состояния это не изменит.
— Понятно, — сказала мама Роза.
Выражение почтительного подобострастия, как плохо приставшая эмаль, вмиг слетело с нее. Она смотрела на меня, и у нее был взгляд покупательницы, которую уже не раз обсчитывали в бакалейной лавке, и теперь она не знает, чего ждать от этого нового продавца.
— А вы, доктор, что посоветуете? — спросила она.
За весь день это была единственная светлая минута: я перестала быть «милочкой». Мама Роза произвела меня в доктора.
Я посоветовала ей выписаться из больницы. Дома отдыхать побольше. Избегать волнений. Принимать дигиталис и постараться протянуть как можно дольше.
И тут мама Роза тяжело запыхтела.
Нет-нет, не пугайтесь! Это отнюдь не было предвестником сердечного приступа, просто мама Роза прикусила губу и пыталась дышать носом.