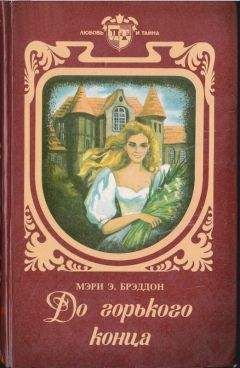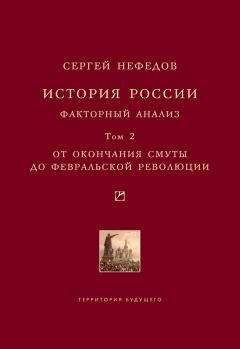Иштван Эркень - Путь к гротеску
Я рассмеялась.
— Ну, там не совсем так было, мама Роза.
— Вот и сейчас вы опять с трудом сглотнули, милая, — предостерегающе заметила она.
— А ведь у меня даже и не першит в горле.
— Давайте все-таки посмотрим ваши миндалины, — сказала она.
Перед профессорским обходом мама Роза каждый раз пудрилась. Мне пришлось взглянуть на себя в зеркальце ее пудреницы. Миндалины не были воспалены. Но позади, за язычком, довольно глубоко внизу вроде бы виднелась небольшая припухлость.
Я стерла с зеркальной поверхности налет пудры. Опухоль по-прежнему виднелась. Ее нельзя было назвать большой или покрасневшей, но сердце у меня всполошенно дрогнуло.
Я вернула зеркальце маме Розе. Что за чушь! Мне всего двадцать четыре года.
— Ну вот я и выздоровела, мама Роза, — сказала я.
Через полчаса я поднялась к Руди. У него сидел стокилограммовый Р., знаменитый кинорежиссер, которого мы «для небольшого завершающего курса лечения» передавали Виллибальду Бокше. Я выждала, пока иссякнет поток его благодарного красноречия, а затем плюхнулась на освободившееся место.
— Ты сможешь пережить хорошую весть? — спросила я.
Пока я пересказывала наш разговор с мамой Розой, кадык его ушел вниз и так долго не появлялся обратно, будто опустился до пупка. Глаза Руди блеснули, как спичка, которая только вспыхнула, но не зажглась.
Он сказал:
— Гений.
Я сказала:
— Рада стараться.
Он сказал:
— Через два месяца мы будем в Пеште.
Я сказала:
— Дай-то бог.
Мы сидели, молчали. Да и о чем тут было говорить: мы давным-давно все продумали и обсудили. Было тихо. Я любила его кабинет. Здесь всегда хорошо пахло. Руди ничего не жалел для себя: курил американские сигареты, мылся английским лавандовым мылом, даже от костюмов его исходил приятный запах, словно бы терпкий дух овечьего помета, пикантно приглушенный, так и сохранялся на материи его костюмов. Мне кажется, больше всего я любила эти запахи, окружавшие его. Насчет этого я очень чувствительна.
У Никоса, которому двадцать два года, я люблю запах самой кожи; у Руди — лишь эту оболочку из запахов, которая его окружает.
Он выглянул в окно. Во дворе кроваво-красным блеском полыхала «шкода».
— Пора ехать, — сказал он.
— Да, конечно, — сказала я. — Поторопись, — сказала я. — То есть обожди, — сказала я. — Сначала посмотри мое горло.
Мы подошли к окну. Он смотрел мое горло, а я следила за его глазами. По тому, как сузились его зрачки, я сразу все поняла.
Пока Руди был занят обследованием, он обеими руками держал меня за плечи. Сейчас он выпустил мои плечи; и словно все выпустили меня из рук, все люди на земле, все врачи, вся наука, словно само земное притяжение отпустило меня.
— Не нахожу ничего особенного, — сказал о н, — но на всякий случай принеси ларингоскоп.
Обычно я всегда ношусь бегом. Оп-пля! — вдоль по коридорам, а по лестнице — через две ступеньки, все равно вверх или вниз… Сейчас мне было не к спеху. Ноги сделались тяжелые, коридор показался непривычно длинным, и я не торопилась — пойду-пойду и остановлюсь. Сверила свои часы с теми, которые висят над буфетом. Помню, было двадцать минут двенадцатого.
— Ничего у тебя нет, — сказал Руди, снимая зеркало.
— Тогда хорошо, — сказала я.
— Просто миндалины слишком чувствительные.
— А повышенная температура? — спросила я.
— По той же причине.
— Но иногда у меня першит в горле.
— Все одно к одному.
— У меня всегда было с горлом не впорядке, — сказала я.
— Это уж у тебя конституция такая, — сказал он.
— Значит, ты ничего не находишь? — спросила я.
— Глотаешь ты свободно, без помех? — спросил он.
— Да, — ответила я.
— Ну, вот видишь, — сказал он.
— Спасибо, — сказала я.
— Не за что.
Он выглянул в окно. Я знала, что он хочет сказать. В таких случаях лучше уж произнести самой: не только потому, что говорить легче, но и слышать из собственных уст тоже легче.
— Не зайти ли мне к Ольге? — спросила я.
— К Ольге? — задумчиво протянул он, словно ему самому и не пришло бы в голову предложить мне сделать биопсию. — Ну что ж, это не повредит.
— Ты подождешь? — спросила я.
— Ну конечно, — сказал о н. — За час у нее все будет готово.
Ольга Бидерман была страстной поклонницей театра, а точнее говоря, своим человеком в театральном мире. По субботам прямо с вокзала она спешила в эспрессо «Артист», чтобы войти в курс всех театральных сплетен за неделю.
Когда я постучала, она подрисовывала брови.
— Ай-ай-ай! — сказала она, заглянув мне в горло, примерно с таким же раздражением, какое могло быть адресовано дырявому зубу. — Я сразу же сделаю. Через час можешь прийти за ответом.
Было немного больно, но я не слишком чувствительна к боли. Я спустилась к себе в комнату. Посмотрела на часы. Вышла в буфет. Там тоже взглянула на часы. Выпила кофе. Вернулась обратно. Еще целый час!
Я вытянулась на постели, но меня раздражало тиканье наручных часов. Перевернувшись на живот, я сунула руку под подушку, но тиканье все равно было слышно. Ничего, думала я, ну и пусть его слышно. Можно даже еще и считать секунды. Я сосчитала до шестисот, потом посмотрела на часы. Прошло семь минут. Если не веришь в бога и не можешь заполнить этот час молитвой, то что делать с собою? Нечем ускорить ход времени и нечем отсрочить конец… Тут мне сделалось стыдно. Ведь я же умею владеть собой. К примеру, могу уснуть, когда пожелаю. Я взглянула на часы: оставалось еще сорок минут. Я закрыла глаза. Не знаю, как мне это удалось, но я заснула. Ровно через сорок минут я проснулась — такая измученная, словно у меня на спине дробили камни. Можно было пойти к Ольге, и все-таки я не шла.
Еще пять минут. Еще пять. Еще две. Ну уж нет! Не из страха, а из упрямства я выждала еще три минуты. С четвертьчасовым опозданием поднялась я в ларингологическое отделение.
Ольги и след простыл. В ее кабинете уборщица мыла окно.
— Где же доктор? — спросила я.
— Уехала.
— Как уехала? — спросила я. — Ведь поезд будет только через час.
— Доктор на машине укатила, — пояснила уборщица. — За этим толстым киношником прислали автомобиль из Пешта.
— Она не оставила тут анализ? — поинтересовалась я.
— Что вы, разве можно! — сказала она. — Доктор всегда все свои бумажки на ключ запирает.
Я огляделась повнимательнее. У лабораторного стола было два ящика, и оба были на замке.
— Что-нибудь срочное? — спросила уборщица,
— Любопытно было бы взглянуть, — сказала я.
— Чей анализ? — спросила она.
— Мой, — сказала я.
— Теперь придется ждать до понедельника, — сказала она.
Я подошла к окну. Оно было до того чисто вымыто, что стекла точно и не существовало. Я взглянула вниз. «Шкоды» во дворе уже не было.
— Господин профессор тоже уехал? — спросила я.
— Что случилось, доктор? — спросила она и шлепнула тряпку в ведро.
— Ничего, — сказала я.
Меня слегка качнуло. Но затем я подумала, что на месте Ольги я поступила бы точно так же. И на месте Руди я поступила бы точно так же. И еще я подумала, что не имею права роптать: молчок — и делу конец!
На следующий день, в воскресенье, с восьми утра я впервые в жизни заступила на дежурство в нашем отделении.
Выдержки у меня хватает. Я умею не думать о том, о чем не хочу думать. Умею экономно распоряжаться и жалостью: не только на других не растрачиваю попусту, но и на себя. По-моему, я ни разу не плакала со времен детства.
Когда я подавала заявление в университет и представляла себе, как через пять лет стану врачом, меня преследовали слова Костолани[3]: «И высшим знаком состраданья пусть будет трезвый, беспристрастный взгляд». Я и по сю пору придерживаюсь этого принципа. Правда, по мнению Никоса, я до такой степени боюсь впасть в сентиментальность, что даже и чувствовать не решаюсь, но это заблуждение. Я боюсь не самих чувств, а их неограниченной власти над человеком — тем более в наше время, когда всем правит разум.
Логика мышления не всегда привлекательна; к примеру, однокурсники в моем рационализме усматривали выпендреж. Это тоже заблуждение. Разве выпендриваются пчелы, строя свои ячейки наиболее экономичным способом по законам улья, то есть в форме шестигранника? Вот также и я всего лишь подчиняюсь требованиям окружающей среды. Но при этом всячески стараюсь, чтобы поступки мои нельзя было мерить двоякой меркой — ни мне, ни кому-либо другому; этого требует моя совесть.
Скажем, вчерашний день меньше всего напоминал безмятежный девичий сон; и все же я не сдалась! А ведь замок в ящике Ольгиного стола был самый обычный, и подобрать к нему ключ не составило бы труда. Да чего там: ящик преспокойно можно было открыть с помощью ножа для разрезания бумаги, а еще проще было бы часов в пять позвонить Ольге в кафе «Артист». Но я не сделала себе поблажки. Человек должен придерживаться взятой на себя роли: если ты врач — будь врачом, если больной — то и веди себя, как положено больному. Не стану я устраивать себе протекцию у себя самой же. Тихо-спокойно дождусь утра понедельника.