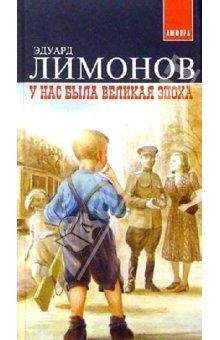Александр Ласкин - Дом горит, часы идут
К уходящей натуре Семен Акимович испытывал нежность. Тут не “Остановись, мгновенье!”, а “Не уходи! Повремени!”
7.
Еще Раппопорт взял псевдоним С. Ан-ский. В новой своей фамилии спрятал цитату.
Поэт Анненский подписывал стихи: “Ник – то”. Так вот Семена Акимовича можно назвать “никто”.
Как видно, потому он жил разными жизнями, что хотел свое несуществование преодолеть.
Ну кто такой Шлойме Раппопорт? Только и скажешь, что житель черты оседлости.
Совсем другое – журналист Раппопорт. Вроде только уточнение, а читается по-другому.
Кстати, это относится к эсеру Раппопорту и шахтеру Раппопорту. К общим сведениям тут добавлен сюжет.
Никак он не мог без этих сюжетов. Прямо хлебом не корми, а дай поучаствовать.
Это у него от увлечения театром. Люди сцены никогда не удовлетворятся равенством себе.
Не о нем ли сказано: кто был ничем, тот станет всем? Впрочем, нам больше подойдет: кто был “никто”, будет первым среди многих.
8.
Небольшой писатель Чириков, но реалистический. Там, где символист предпочтет обобщение, он непременно уточнит.
Буквально каждая реплика узнаваемая. Остается только поставить столик и разложить гору часовых механизмов.
Дальше появится уже упомянутый Лейзер и произнесет очередную сентенцию.
Еще не забудьте об акценте. Вместе с мерным покачиванием головы он создает ритм.
– И вот уже десять лет я смотрю с утра до вечера в часы и боюсь, что кто-нибудь придумает такие часы, которые никогда не будут портиться!
Каждый ответ Лейзера потому убедителен, что в нем скрыт новый вопрос.
– Неужто когда-нибудь будет такой порядок, что не только люди, но часы не будут спешить?
Словом, вывод оказывается поводом для сомнений. Вроде как высказал уверенность, а потом себя одернул: нет, тут что-то не так.
Другие персонажи не уступают этому старику. И уж точно ни в чем не уступают реальности.
К примеру, Березин – почти Блинов, а его невеста Лея – почти Колина супруга Лиза.
Сперва Березин ни во что не вмешивается. Лию любит, евреям сочувствует, но особого рвения не проявляет.
Дело, конечно, в темпераменте. В ремарке сказано, что этот герой “говорит спокойно, иногда вяло, но всегда рассудительно”.
Помните письмо об устройстве соски? Когда Коля что-то растолковывал, то не жалел сил.
Вот и Березин такой. Всякий аргумент он сопровождает фразой: “Это верно”.
Будущие родственники его тормошат. Прямо требуют за второстепенным увидеть главное.
Сначала на штурм идет Лея: “Всякий раз, когда я услышу, что где-нибудь бьют евреев, я чувствую, что я жидовка…”
Тут она произносит нечто нестерпимое. Теперь ему все же придется что-то сделать.
Можно ли было вообразить, что он когда-нибудь услышит: “И я начинаю чувствовать неприязнь даже к тебе”.
Представляете, как она это говорит? Спокойно-спокойно, с каждым словом все больше растравляя рану.
Затем наступает черед Нахмана: “И я хотел бы узнать, что вы будете делать, когда увидите, что бьют жидов?”
Характерно это “и” в начале. Фраза начинается с высшей точки, а потом движется вниз.
Березин не принимает этого “и”. Он начинает с совершенно ровного места.
Так разговаривала бы еврейская гора с русской равниной. Поэтому собеседники не слышат друг друга.
“Вам это интересно?” – спрашивает Березин. Словно речь о второстепенных вещах.
Нахман настаивает на своем “и”. Считает, что нейтральная интонация обозначает безразличие.
“Если ваши единоверцы будут на ваших глазах бить жидов, выпускать из перин пух, а из жидовских животов – кишки, бесчестить наших жен, матерей, сестер, – что вы будете делать?”
Березина ничто не берет. Даже после этого вопроса он отвечает: “Не знаю”.
Нахману нужно его добить. Чтобы он оставил свое укрытие и что-то вразумительное сказал.
“Вы же должны что-нибудь делать! Или вы будете стоять в сторонке и смотреть? Или это „не ваше дело“. Пускай себе человечество возрождается, а жидов бьют себе на здоровье, как собак?!”
Тут низменность опять выступает на первый план. Демонстрирует, что оно знать не знает ни о каких возвышенностях.
“Вы во что бы то ни стало желаете, чтобы я был виноват в том, что делают другие?”
Все же Лиин жених погибает. Несет полную ответственность за брошенное им в лицо погромщикам: “Звери!”
Сперва Березин, как всегда, не решителен. Спешит не принять участие, а поскорее скрыться.
Потом понимает, что выхода нет. Что, глядя на все это, только и повторишь: “Это верно”.
Мол, ничего не поделаешь. Если так повернулось, то правильней будет умереть.
9.
Как можно было, не будучи знакомым с Лизой и Колей, сказать о них все? От этой точности даже поеживаешься.
Удивительно, что на сей раз высшая сила не скрывает своего присутствия.
Причем так, что не спутаешь. Сквозь фамилию “Березин” проглядывает “Блинов”, а сквозь имя “Лея” – “Лиза”.
Еще надо понять такую странность. Если это послание, то почему оно вложено в не самую лучшую пьесу?
Чириков для этой миссии тоже не подходит. Был бы сторонником евреев, так ничего подобного.
Пару раз Евгений Николаевич спьяну проговаривался. Что-то бормотал о еврейском засилье и косился на соседа по столу.
Видно, личность драматурга тут ни при чем, а вкус и вообще – дело десятое.
Вряд ли провидение заинтересуется другими текстами автора. Да еще, подобно заядлому редактору, потребует все переписать.
10.
С тех пор Колина судьба связана с “Евреями”. Он стал не только исполнителем одной из ролей, но заложником этой пьесы.
Публика, конечно, ни о чем не догадывалась. Должно было пройти немало времени, чтобы все прояснилось.
Другое дело – смыслы, лежащие на поверхности. С этим все настолько ясно, что пьесу запретили.
Впрочем, то, что не разрешено в России, за границей немедленно входит в моду.
Трудное дело – эмиграция, но порой приятное. Особенно если речь о запретных плодах.
На родине они бы читали Горького или Куприна, а тут знакомятся с новинками свободной мысли.
Не просто знакомятся, а смотрят на сцене. Существуют так, будто между изданным и неизданным нет никакой разницы.
Как не отметить это событие? Женщинам не взбить на головах башни, а мужчинам не прочертить в шевелюре пробор.
В таком праздничном виде идешь смотреть пьесу о том, что в жизни нельзя перенести.
В фойе преобладает мотив: нам не страшно! То, от чего бы мы шарахались дома, здесь не причинит вреда!
Немного, правда, смущает название. Оно не ограничивает пространство пьесы и включает в себя зрительный зал.
Это вам не “Дядя Ваня” или “Три сестры”, а “Евреи”. То есть весь без исключения огромный народ.
Вот как все сложно. Погода прекрасная, рядом чудесное озеро, но что-то мешает выдохнуть и вздохнуть.
11.
Сцена в это время полюбила действительность. Когда пытались что-то вообразить, то в первую очередь думали о месте действия.
Причем себя не ограничивали. Уж если большая квартира, то все четырнадцать комнат.
На подмостках росли почти настоящие деревья. Сразу возникала мысль, что на следующем спектакле они зазеленеют.
Бывало, ветер гулял по сцене. По крайней мере, занавеска вздымалась высоко, как во время грозы.
Может, так театр извинялся за былое равнодушие к реальности? Этими подробностями возмещал их полное отсутствие?
Правда, не со всякой действительностью захочется оказаться рядом. Будешь как завороженный смотреть на руку с острым ножом.
Этому ножу все равно что вспарывать: он так же легко войдет в перину и в живую плоть.
Известно, что за перины у евреев. Потому на них пошло столько пуха, чтобы сразу провалиться в сон.
Так что это нелюбовь не к перинам, а к снам. К единственному праву этих людей ночью забывать о своих бедах.
Летит пух над сценой театра, перелетает в зал, оседает на платьях и пиджаках женевской публики…
На улице зрители отряхнут одежду, а дома обнаружат еще дюжину пушинок, которыми их пометил погром.
12.
Для актера спектакль – вариант судьбы. Примериваешься к чужой истории и делаешь кое-какие выводы.
Что если это был бы не он, а ты сам? Вел бы ты себя так же решительно или проявил слабость?
Сложнее всего режиссеру. Ведь его точка зрения не фиксированная, а как бы скользящая от персонажа к персонажу.
Для публики это тоже вариант. Все, что удалось миновать в реальности, она переживает в зрительном зале.
Как видно, на сей раз имела место передозировка. Настоящего времени оказалось больше нормы.
Уже никто не верил, что это спектакль. Казалось, погромщики пришли за каждым из них.
Как давно они расстались с родиной, но в эти минуты она была рядом. Причем не ее леса и реки, а ее кастеты и топоры.
Тут есть единственный выход – упасть в обморок. Спрятаться в этом обмороке от наступающих громил.