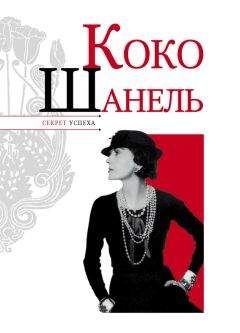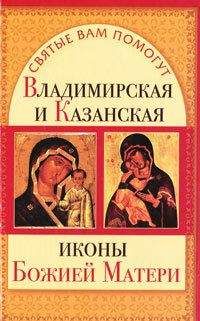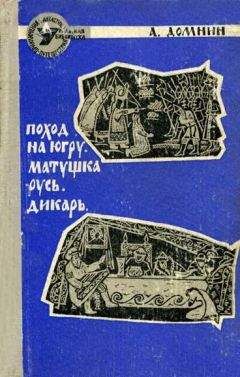Ана Матуте - Первые воспоминания. Рассказы
— Кто их знает!
Я отвела глаза от ее стиснутых губ, из которых торчали булавки, — и пошла за Лоренсой. Они шли к колодцу, в огород, который был в самом начале откоса.
Прислонившись к оливковому дереву, я смотрела на них. Внизу, сквозь агавы, блестело зеленое море, а деревья против света казались черными. Мануэль склонился над колодцем, Лоренса опустила ведро, заплескалась вода. Звонкий, прохладный, серебристый плеск в горящей тишине. «Собаку бросили». Я посмотрела на свои ноги и увидела, что краешком сандалии что-то черчу. «Наверное, жуткая вонь. Пить нечего, вот он и пришел».
— Не знаешь, кто? — спросила Лоренса на здешнем языке.
Он не ответил, вплотную припав к колодцу. Его темные руки блестели, когда он вытягивал веревку. Каменный дракон как будто смеялся. (Китаец утверждал, что эта голова — XII века.)
— Бери сколько хочешь, — тихо сказала Лоренса. — Только не говори никому.
Она повернулась и ушла. Я притаилась за деревом, Мануэль вытянул ведро, вылил воду в кувшин. Кувшин был очень большой, зеленый, эмалированный. «Собаку, ужас какой, — подумала я, — просто ужас».
IVНаверное, больше всего я удивилась, что он не сердится. Услышав мои шаги, он поднял голову. Я помню — так ясно, словно все это случилось сейчас, — скрип ворота и темную сырость колодца, горячую, как дыхание земли. «Вода очень холодная», — сказала я, или что-то еще глупее, но своего добилась: он обернулся и посмотрел на меня. Я видела раньше, в огороде, его загорелый затылок, а сейчас он повернулся ко мне, и я подумала: «Он еще ни разу на меня не смотрел». Когда он брал нашу лодку, он не смотрел на нас. (Вдруг я почувствовала запах сада, где мы были, когда он похоронил отца, и увидела солнце в виноградных листьях и какой-то блеск — наверное, злое сверкание зеленых, золотых и алых осколков.)
Я думаю, было начало четвертого, солнце палило вовсю, и листья никли от жары. Зеленоватая пыль, как дождь веков, осела на голове дракона. У Мануэля было твердое, худое лицо. Оно сверкало на солнце, словно отполированное временем дерево, а запавшие глаза были черные, глубокие, с зеленым отливом. Я никогда не видела таких глаз. Взглянешь в них и забудешь, какой у него нос, какой рот (я — взглянула и забыла). И странно: Борха, Гьем, Хуан Антонио вечно меня унижали, но только сейчас, перед этим мальчиком, которого никто не уважал (перед сыном человека, убитого за нечестивые идеи), я почувствовала себя смешной и ничтожной. Я покраснела, вспомнив свои нелепые выходки, хвастовство, сигареты, карамельки, — все показалось мне жалким и нелепым. Не зная, что же еще сказать, я стояла и смотрела на него и вдруг поняла, что глупо протягиваю руку. Я, внучка доньи Пракседес, кузина Борхи, учившаяся в монастырской школе, была тут ни к чему. «Не сердится», — подумала я. Он не сердился, а как-то печалился, не только о себе, а может быть, и обо мне. Словно принял меня, сжал в руке, как сжимала я сама холодный белый шарик, в котором падал снег. Печаль его вместила мою нетугую косу, уже соскользнувшую на шею, и плохо заправленную блузку, и не застегнутые в спешке сандалии, и струйку пота на лице.
— Ужас какой, — сказала я и поняла, что у меня дрожат губы, а говорю я совсем не то. — Они ужасно с вами поступили.
Из глубин непонятного стыда пробилось раскаяние, словно я могла теперь искупить все грехи, которых и сама не понимала, хотя они так упорно преследовали меня. (Быть может, я была виновата перед всем, что меня окружало, и перед Китайцем, и перед Антонией, и даже перед Гьемом, но не хотела признать своих чувств и своей вины, как не хотела признать страха или любви к богу.) Мне казалось, что длинной трещиной раздалась скорлупа и открылось все, что меня заставляли душить и Борхины шуточки, и бабушкины строгости, предрассудки, лень, равнодушие и липкая тетина никчемность. Я стала вдруг выше всего этого. Я была без них, сама. «Что же случилось?» — думала я. Под вечер, на земле, пока дохлый пес отравлял воду колодца, я стала сама собой и не понимала ничего, как только и бывает в беззащитную отроческую пору. И я прибавила:
— По-моему, они очень плохо сделали, и вообще они плохие, все тут гады и трусы… Терпеть их не могу! С души воротит. Я всех ненавижу, весь остров, кроме тебя.
Я сказала так, и удивилась, и заметила, что у меня горит лицо. Оно горело огнем, словно солнце переместилось мне на голову, и я подумала: «Я же не пила. Там и капельки не осталось». Он все смотрел и смотрел — спокойно, без злобы, без насмешки, будто все, что он видел и слышал, непременно объяснят ему другие люди через много лет. Сверкала медью его загорелая, обветренная кожа. Тончайшая пыль покрывала лицо и ноги в монашеских сандалиях.
— Я бы что угодно дала, лишь бы убежать отсюда! — говорила я. — Хочешь, помогу воду нести?
Он не ответил, и я поняла, как звонок мой голос и как гулко звучит эхо.
— Не надо… — сказал он наконец.
Заговорив, он словно проснулся — как и я, быть может, — и опустил глаза. Мы смущенно стояли друг перед другом, и кувшин разделял нас. Мне было очень стыдно, что я — не взрослая и что я наговорила невесть чего мальчику, который попросил у нас лодку, чтобы перевезти труп отца (убитого друзьями или сторонниками моей бабушки). Я была в таком смятении, такими смутными были мои мысли, что мне стало совсем плохо. Помню, жужжала пчела и что-то потрескивало на грядках, в листьях и стеблях. Я повернулась и пошла, смешно волоча ноги, чтобы не свалились сандалии.
Я уходила, совсем уходила, когда он окликнул меня.
— Ты не поняла! — сказал он. — Не уходи.
Он так устало глядел на меня, что я подумала: «И этот меня старше, и старше нас всех, но не в том смысле, что Гьем». (Хоть Китаец и говорил, что ему едва исполнилось шестнадцать.) Я знала, что он учился в монастырской школе, и что-то монашеское осталось в нем — в глазах, в манере говорить.
Мы оба подняли головы. Один из бабушкиных голубей летел над откосом, едва касаясь воздушной крыши. Тень прошла по земле и затрепетала, как синяя падающая звезда.
— Если бы бабушка видела! Я часто убегаю в это время… особенно, если Борха в роще. Они, свиньи, меня не берут.
Я говорила сердито про рощу, словно холодный ключ прорвался из земли (или Маурисия вскрыла мне нарыв на пальце, и жар спадал, мне становилось лучше). Я говорила, заправляя блузку, застегивая сандалии, а он стоял и молчал. Когда я кончила, мне показалось, что он не смеет ни уйти, ни остаться. Я снова загрустила: «Не хочет со мной дружить… Бабушки боится. Думает, она рассердится. А может…» Но я сама не решалась думать, я только хотела, чтобы меня несла блаженная река, из которой, наверное, мне уже не выплыть.
— Не задерживайся из-за меня, — сказала я. — Я пойду с тобой.
И потянулась к кувшину. Мануэль не дал мне его взять и молча пошел впереди. Я следовала за ним, и мне казалось, что он не решается обернуться и посмотреть, иду ли я. Спускаясь по откосу, я глядела ему в спину. Он был в белой, запачканной землей рубашке и синих штанах. Ноги в сандалиях были коричневые, матовые от пыли.
Его дом стоял внизу, недалеко от моря. Там росли несколько олив, а правее — с полдюжины миндальных деревьев. Калитка, выцветшая от ветра и солнца, всегда стояла распахнутой (не то что у нас — все заперто, все скрыто, как будто мы ревниво бережем свой мрак). Тут, у Мануэля, солнце свободно, но невесело проникало во все щели. И дом, и деревья, и земля принадлежали когда-то Сон Махору. Говорили, что Малене и Хорхе жили как муж с женой. Во всяком случае, так говорил мой брат. Сейчас мне стало почему-то неприятно, что я об этом знаю. Участок Таронхи ворвался на бабушкину землю. Кажется, бабушка тоже не любила их, но она хотя бы о них никогда не вспоминала. Скорей всего, она просто презирала их. Она всегда презирала такое, как у Малене с Сон Махором. Теперь Хосе Таронхи умер, а у его сына, прежде не копавшего землю, обгорел затылок, потому что он погрузился в пламя земли и весь пропитался тем, что строго скрывали от меня. Я вспомнила, как испугался Борха, когда Мануэль уплыл на лодке. А мне, совсем его не знавшей (неужели я его не знала?), почему-то захотелось рассказать ему то, чего не услышали бы от меня ни Борха, ни Хуан Антонио. Быть может, я хотела сказать одно: «Я ничего не понимаю, что творится в жизни, и в мире, и вокруг меня. От птиц до земли, от неба до моря я ничего не понимаю». Все здесь грозили мне — и бабушка, и даже Китаец. «Не знаю, жесток ли мир, но понять его трудно». Глядя на спину Мануэля и на его огненные волосы, я думала: «Понял бы он про Горого?» Какой он странный, этот бедный мальчик, отверженный, чуэта[8], у которого отца убили, а мать все презирают! Почему он так важен для меня? Почему вообще так бывает?
Подойдя к калитке, он обернулся и взглянул на меня. Я увидела, как отчаянно блестят его глаза, и остановилась, не смея войти в их сад. Мне показалось, что он думает: «Стой, маленькая истеричка, здесь я хозяин, здесь мое царство. Иди к себе, к злой старухе, к ханжам и тайным порокам. Иди в свой сырой и темный дом, где даже крысы, как грешные души, не находят покоя, и где сверкает золотом сервиз, подарок короля. Иди, иди, тут мой дом, и тебе его не понять, смешная и глупая девчонка». Я стояла очень тихо, и Горого тихо сидел за пазухой, у самого сердца. «Глупая, испорченная девчонка, иди, кури, пей, склоняй латинские слова, спрягай французские глаголы, учись изящно двигаться из-под палки. Иди, и пусть тебя выдадут за жирного, гнилого богача или за зверя с бичом, как твой дядя Альваро». Голуби летели в Сон Махор над нашими головами, словно темные, быстрые хлопья, а тени их осенними листьями неслись у наших ног. Мне стало страшно, как в то утро, у смоковницы, когда гордый петух гневно глядел на меня.