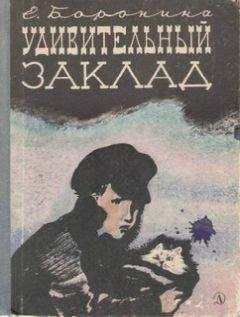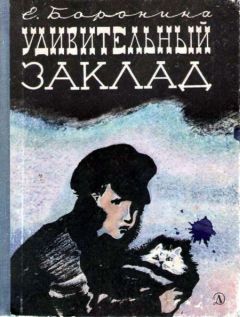Ричард Флэнаган - Смерть речного лоцмана
Существовало множество потрясных историй, объясняющих придурковатость Милтона. Поговаривали, будто его усыновил Эдуард VIII, когда тайно приезжал в Австралию во время Второй мировой войны. Будто он происходил из рода, ведущего свое начало от какого-то флагелланта, отлученного от церкви. Будто правительство во время войны привлекало его мать, когда она была беременна, к участию в секретных испытаниях. Но правда о моей придурковатости была более прозаичной. Я был туг на ухо и не говорил, потому как почти ничего не слышал, кроме гулкого тарахтения автобусных моторов да Милтонова ржания.
Но те воспоминания опережают мое видение, а вижу я мальчугана с рыжими космами – он одиноко стоит посреди спортивной площадки, что расположена вместе со школой, куда он ходит, ниже уровня автострады, пролегающей вдоль северной границы школьной территории. Мальчуган мелковат для своего возраста, он даже мельче ребятни, резвящейся вокруг – играющей кто в пятнашки, кто в догонялки, кто в «британского бульдога»[22], кто в мяч. Пока другие ребята не сводят глаз друг с дружки, его глаза устремлены к небу. И я знаю, что чувствует этот мальчуган, но не потому, что он – это я, Аляж, а потому, что слежу не только за движениями тела мальчишки Аляжа, но и за движениями его сердца и души.
Мальчишка Аляж чувствует себя совсем другим. Он чувствует, что его мир, мир вокруг него, совсем чужой. Временами он закрывает глаза, потом быстро открывает – и видит, что вся площадка будто сложена из каких-то бессмысленных углов. Я говорю «его мир», хотя он не чувствует, что в нем хоть что-нибудь принадлежит ему. Все в этом мире принадлежит кому угодно, только не ему. Мир пока еще не сформировался вокруг него, как и он сам не сформировался в этом странном мире под впалым лазурным небом. Он смотрит на облака в небе, следит, как они проплывают над ним и над тем местом, к которому он прирос всем телом. И думает: вот было бы здорово научиться летать, как герои комиксов. Думает: это, наверное, зависит от силы воли и чуда, все равно как научиться ходить и разговаривать, а то и другое он помнил очень хорошо. И тяжелее всего было научиться говорить. Тогда его никто не понимал. Ему хотелось сказать что-нибудь хорошее, красивое, смешное. А люди смотрели на него сначала с недоумением, потом с жалостью. Но ему не хотелось жалости. Ему хотелось разговаривать. Хотелось, чтобы его понимали. Со временем его словарный запас становился все больше. Он уже прислушивался к тому, как слова используются, как одно и то же слово обретает множество разных значений, как каждое слово превращается в дерево, ломящееся от плодов. Но когда он задавал вопросы, в ответ ему только недоуменно качали головой. Гарри с Соней переживали, что их сын глуп как пробка.
«В семье не без урода – значит, так тому и быть», – сказал однажды Гарри, говоря это в присутствии Аляжа и думая, что их глупый сын ничего не понимает.
«В семье не без урода». Аляж разозлился, видя, что никто не разбирает его слов, впал в дикую ярость и с криком принялся кататься по полу. Соня повела его к врачу, и врач установил, что ее сын вовсе не глупый, а тугоухий, а его бестолковую речь можно объяснить так: он слышит не слова, а лишь их отзвуки – звуковые колебания, проходящие через его черепную коробку. По мнению врача, глухота стала результатом неправильного лечения воспаления легких в раннем возрасте. Ребенок не настолько оглох, чтобы ничего не слышать, но он был достаточно туг на ухо, чтобы речь его сильно нарушилась. И Аляжу сделали операцию на уши. Операция прошла успешно – и речь его наладилась.
Теперь я вижу уже повзрослевшего мальчика, хоть и маленького ростом в сравнении с однокашниками. И слышу, что однокашники говорят мелкорослику. Как только они его не называют – и итальяшкой, и макаронником, и чумазым, и жидовской мордой. Он обижается, но ничто не обижает его так, как в тот день, когда его одноклассников приглашают на десятилетие Фила Ходжа. Всех, кроме него. Сорок одного человека – девочек и мальчиков. «А ты гуляй, Козини», – говорит Терри, младший брат Фила. «Нам не нужны итальяшки, – говорит Терри, младший брат Фила, и лыбится. – Особенно такие рыжие сопляки, как ты».
Мелкорослик живо смекает, что должен давать сдачи, и неважно, кто победит. Неважно, что он будет неизменно проигрывать и неизменно же возвращаться после обеда за парту в изодранной сорочке и в кровавых ссадинах. Он знает: если его обступают со всех сторон и начинают в него плевать, а потом толкаться и пускать в ход кулаки, ему придется отвечать ударом на удар. Даже если его собьют с ног и повалят на горячую асфальтированную спортплощадку и одни будут держать его, а другие бить, даже тогда, известное дело, он должен отбиваться любой рукой и любой ногой, которую ему не успели отбить, должен мгновенно вырваться из хватки, должен биться и биться, потому что они могут одолеть его лишь в том случае, если он спасует. День за днем его пинают и лягают, оплевывают и приговаривают: «Головомойку ему! Головомойку!» В него летит золотистая труха из-под картофельных чипсов, летит и обсыпает его огненно-рыжую шевелюру под общие распевные возгласы: «Блонди![23] Блонди!» А он нипочем не сдается, ни слезинки не проронит перед обидчиками, даже когда учитель после обеда воротит нос, чувствуя, чем попахивают его волосы, и, оглядев его голову, велит ему немедленно отправляться в умывальню и хорошенько отмыться, а потом, качая головой, цедит сквозь зубы: «Ох уж эти переселенцы, никакой гигиены!..» Но даже в столь жалком состоянии, когда лицо его горит от боли и глубочайшего, крайнего унижения, он не плачет и не сдается.
Как ни странно, ему даже не хочется доказывать, что он наполовину тасманиец. Потому что он гордый и думает, что люди должны принимать его таким, как есть, без учета родословной, чтобы одна ее половина не ущемляла другую. Просто он не может смириться с тем, что все считают его ниже себя. И в этом его поддерживает другой мальчишка – Эйди Хейнс. Эйди такой же чужак, как и Аляж. Он помалкивает, когда его дразнят черномазым. Он тоже смуглый, как Аляж. «У нас, видишь ли, темная кожа, – говорит он Аляжу. – Не знаю, что уж тут не так. Но что-то есть». И еще: он, похоже, так же, как и Аляж, находится в состоянии постоянной войны с остальными школьниками. После четвертого класса Эйди уходит из школы, потому что его семья переезжает куда-то на север. Аляж играет с Эйди, пока его домочадцы пакуют вещи и грузят их в старенький «Остин»; и смеется, когда видит, как Эйди, собираясь протиснуться на заднее сиденье, где уже теснятся пятеро малышей, напяливает на себя маску с трубкой, чтобы не нюхать воздух, который они будут портить. «До встречи, братишка!» – говорит Эйди, отворачивается, ныряет в общую свалку на заднем сиденье, потом выныривает из-под задней полки, как аквалангист из водолазного колокола, и на лице его сияет улыбка – ее видно даже через грязное, исцарапанное стекло окна автомобиля и маску с трубкой.
Оглядываясь сейчас назад, могу сказать, что детство мое как будто складывалось из череды прощаний. Прощаний с родственниками, перебиравшимися жить и работать на материк, где, поговаривали, люди были счастливы и где завтрашний день, как считалось, обещал быть лучше дня сегодняшнего; прощаний с моими тетушками, отправлявшимися в последний путь на кладбище. Все начинается в тот день, когда я прощаюсь с Эйди и гляжу, как он, в маске, скрывающей лицо, неистово машет мне в заднее окно автомобиля, а заканчивается спустя годы, когда я прощаюсь с Кутой Хо и уезжаю сам.
В день отъезда Эйди я ходил как в воду опущенный, и Гарри решил взять меня покататься на машине. Обычно Гарри катался без всякой цели – точнее говоря, попросту наворачивал круги по новым шоссе и автострадам, что, казалось, приносило ему одно лишь разочарование. Не то что прежде, когда каждый пень, каждый состарившийся эвкалипт, одиноко торчавший посреди загона, каждая заброшенная деревянная хибара – полуразвалившаяся, покосившаяся, точно хвативший лишку Грязный Тед, боровшийся с земным притяжением при поддержке ежевичного вина и нечеловеческой силы воли, – каждая просека, ведущая в сторону от дороги, казалось, заставляли Гарри делать очередную неизвестно какую по счету остановку. Бывало, мы все выбирались из видавшего виды многоместного «Холдена ЕК»[24] – включая Марию Магдалену Свево, Соню, почти всегда – парочку кузин, бесконечно подкармливавших меня чем-нибудь вкусненьким, – и разминали ноги у обочины, потом сворачивали в буш, где Гарри начинал рассказывать свои байки, делая это так:
«Ни разу не слыхал такое от самого дяди Джорджа, но, насколько знаю, тетя Сес уверяла…»
Или так:
«И вот здесь-то твоего дядю Рега на пару с Бертом Смитерсом и сцапали за браконьерство, а когда дело дошло до суда, Рег с Бертом возьми да прикинься дурачками: Рег закосил под дурачка с заячьей губой, а Берт – под дурачка с волчьей пастью, – и уж так-то они старались, что судья не преминул объявить их слабоумными, а значит, не способными нести ответственность за содеянное, и отпустил восвояси…»