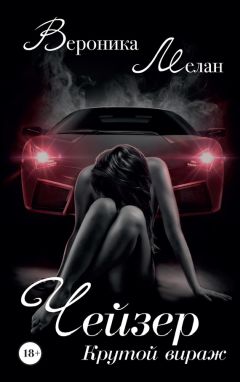Ольга Трифонова - Запятнанная биография (сборник)
«За что ж меня так быстро? — подумала тогда. — За что?» Москвич моложе Агафонова и красивее его, похож на Марчелло Мастрояни, а не разлюбил. Правда, жена тоже красивая и добрая, улыбается очень хорошо. Наверное, она знает, какой надо быть, чтоб не разлюбили. Жаль, что спросить нельзя.
— Лаб рит, — сказал Марчелло Мастрояни, и вдруг неожиданное: — Есть такое слово — «лишавый»?
— Не знаю… не уверена.
— Человека, покрытого лишаями, как назвать?
— Не знаю… — я отвыкла разговаривать и, наверное, производила сейчас впечатление придурковатой. — А зачем вам?
— Я перевожу, — сказал нетерпеливо, уже пожалел, что заговорил, не знал, как скорее закруглиться, но пересилил раздражение, пояснил вежливо: — Я перевожу трубадуров, и все время этот «лишавый», ну вот как иначе скажешь, второй день бьюсь.
Очень хотелось помочь, найти нужное слово, может, тогда бы… может, вот так и началась бы дружба, и я бы не была так одинока. Но в голову все лезло «короста», «плешивый» и еще: «Почему бросил? За что? Словно лишавую какую-то?»
— Извините, — Марчелло Мастрояни улыбнулся обаятельной улыбкой, наверное, еще с былых времен оставшейся для таких вот провинциальных неловких дур. — Извините ради Бога!
Словечко привязалось. Пока качала воду, все повторяла мысленно в такт движениям: «лишавая», «лишавая». Обнаружила, что нет спичек, сломала неловко последнюю. Где-то же должны быть, не может так, чтобы коробок не завалялся. Выдвигала один за другим ящики белого буфета. Горчичники, пакетики с содой, бумажные салфетки, листок календаря. Двенадцатое марта, день моего рождения, заход, восход, долгота дня, и аккуратно, крупным почерком: «Анита». «Откуда знают?» Но не только знают. Помнят. Прислали деньги. На них выкупила из ломбарда часики. Единственную свою драгоценность — золотые часики-крабы марки «Наири». Сразу выкупила, хотя только месяц пролежали и могли лежать еще три, если считать льготный. Очень нужны были — Агафонов пригласил отпраздновать в ресторан. Как же без часиков?
Праздновали день рождения и годовщину знакомства. Тогда исполнился год. Я сама сказала ему об этом. Дата нашей первой встречи. Вот и начну с самого начала, и, как археолог, бережно, метелочкой, буду смахивать пыль с осколков, пока не найду главный, недостающий, только, в отличие от археолога, этот главный, последний не даст возможности воссоздать целое, а разрушит его, и я по-прежнему увижу груду обломков, но я буду знать, где главный — тот, что не подошел.
Я не заметила, как нашла спички, зажгла газ, не заметила, что уже закипел чайник и сварились яйца. Ведь наконец найден выход, такой простой, — вспомнить все с самого начала, и как только раньше в голову не пришло.
В автобусе, как всегда, трое: женщина с волевым лицом и изуродованными, в старых мелких шрамах, руками, она сойдет скоро, у рыболовецкого колхоза «Селга», и двое парней. Эти поедут почти до Риги, до автосервиса при роскошной магистрали Рига — Взморье.
Женщина сидит передо мной, и я вижу ее руки, вцепившиеся крепко в никелированную трубку дивана. От нее пахнет рыбой и духами «Желудь».
Марчелло Мастрояни торжественно несет белый детский горшок к домику-скворечнику, его красивая жена мелькнула на увитой хмелем террасе в чем-то ослепительно розовом. Для дачников они просыпаются рано. Из трубы фабрики-коптильни уже вьется дымок. В автобусе не услышать его вкусного запаха. Конец деревни. Теперь сосны, заросли уже зацветающего вереска вдоль дороги. Пока только отблеск будущего, лилового, зальющего всё цвета.
Парни разговаривают сзади не останавливаясь, но их непонятные речи не мешают думать, они, как пение птиц, не отвлекают внимания, не заставляют вникать в смысл. Итак, всё сначала. Времени хватит, впереди еще много таких часов, и одиночества, и бессонных ночей. Итак, вспоминай, лишавая.
Глава II
Я феномен — что-то вроде той несчастной девушки, которую привели в наш конференц-зал, чтобы она показала, как умеет видеть пальцами. Девушка была в ярко-красной вигоневой кофточке и зеленой юбке, в черных шерстяных рейтузах, обтягивающих толстенькие ножки. Горячечные пятна волнения горели на свежих щеках, черные глаза блестели как в жару, глядели невидяще в зал. С угадыванием цвета что-то все не получалось, но девушка не смущалась и не нервничала, перебирала в черном мешочке картинки и комментировала свои ощущения стихами. Смотреть на это было невыносимо.
Вот картиночка опять.
Пальчик может увидать —
Это черный или белый.
Нет, проверю лучше левой…
— Зачем они ее мучают? — Олег сидел рядом, морщился страдальчески, кусал пухлые яркие губы. — Ань, пошли отсюда.
Но мне было неловко встать и уйти, хотя происходящее на сцене мучило и меня.
Я феномен, потому что до встречи с Агафоновым жизнь моя вспоминается клочками и все только о других: как Олег сидел рядом, а на сцене мужчины в заграничных костюмах терзали девушку, или как Таня купила часы с кукушкой и страшно огорчилась, когда кукушка, прокуковав три раза, спряталась в домик, и больше никакими силами вытащить ее оттуда было нельзя..
— Ей не нравится мой дом и не нравлюсь я, — сокрушалась Таня.
— Да она просто мещанка, — успокаивал Олег, — тебе попалась кукушка-мещанка. Из тех, что только и делают, что вылизывают свою хорошенькую кухоньку с ситцевыми занавесочками, а у тебя ситцевых занавесочек нет.
— Я повешу, — серьезно обещала Таня, — и посуду буду мыть сразу.
— Не поможет. Ты ей вообще не нравишься. Эта кукушка — Анина сестрица. Вера из орнитологического мира.
Прозвали кукушку Верой, шутили, выпивая в кухне:
— Вера там, наверное, очень недовольна. Ну, хватит, а то Вера выскочит, долбанет в темечко.
Олег шутил, Таня — никогда. Наверное, чувствовала, что меня все-таки корежит, Вера — родная сестра.
С какой тоской много раз вспоминала все эти шуточки и наши вечера, вспоминала, когда потерялась навсегда для меня их прелесть. Только одно было важно: увидимся или не увидимся, любит или не любит. И не только ушло милое, скучное, безоблачное — я отстранилась. Отстранилась душой от всех, теперь ее просто не хватало больше ни на кого. Отсюда и непоправимая вина перед Таней, и предательство мое Олега, страдания мамы и правота Веры. Отсюда и феномен: я помню все, касающееся меня и Агафонова, я помню каждый наш день, я помню даже странный пушок на его верхних веках, заметный, только когда свет лампы у изголовья широкой тахты, падая сзади на его лицо, высвечивал эту нежную шерстинку. Тогда его тяжелые, медленные веки напоминали мне крылья бабочки, в сонном томлении приникшей к сердцевине цветка и шевелящей изредка крыльями, чтоб не уснуть.
Я помню день, когда увидела его в первый раз. Он всплыл потом, этот день, и навсегда остался со мной не потому, что это был день моего двадцатилетия, а потому, что днем увидела Агафонова, а вечером о нем много говорили у Петровских. Почему я слушала с таким вниманием непонятные речи Валериана Григорьевича, почему запомнила выражение испуга на лице Елены Дмитриевны, будто приближались к чему-то опасному, грозящему взорваться, разрушить все в красивой, теплой и уютной комнате, почему спросила у Олега неуместное:
— А у него есть дети? — и до сих пор помню, как, смеясь, он сказал отцу:
— Ну ладно, ладно старое ворошить, он классный мужик, вон Ане даже понравился. Правда, Аня?
— Он страшный, — сказала я, и Елена Дмитриевна посмотрела на меня с удивленной благодарностью.
— «Эль омбрэ и осо, куанто мае фэо сон мае эрмосо», — засмеялся Валериан Григорьевич и перевел: — Испанская пословица гласит: «Мужчина как медведь: чем страшнее, тем привлекательней!»
Сколько раз мне вспоминалась потом не эта пословица, а слова бабелевского Акинфьева: «Тебе бы, как увидел меня, — бежать бы надо». Мне тоже надо было бежать. И Олег знал, что бежать, недаром звонки по утрам в воскресенье: «Поедем на дачу?» — и ожидание после работы:
— Я тебя подвезу до института?
И Таня знала.
Когда приплелась — раздавленная лягушка с грязным куском льда, подобранным на улице, — и легла на тахту, положив резиновую грелку с толченым, перемешанным с землей льдом этим на низ живота, села рядом, взяла худенькой, уже голубовато-бледной рукой мою вялую руку, сказала тихо:
— Никогда не поздно.
— Знаю, — безучастно ответила я, глядя в потолок, не поняв ее слов, — знаю…
— Никогда не поздно спастись, хотя бы бегством. Я помогу тебе, я буду с тобой. — И вдруг поцеловала мою руку. — Прости!
— Ты что! — рванулась я. — Ты с ума сошла!
Мы лежали рядом, и я впервые плакала, и Таня гладила мои волосы, и утешала, и говорила, что ее вина, что помнит, как год назад пожелала мне любви, плохо обернулось пожелание, а потом другое, что все наладится, только я должна больше думать о нем, но не так, как сейчас — «любит не любит» и «не бросай меня», потому что это думать о себе, а понять, что у него теперь «день собаки», как говорят англичане, он наконец близок к цели, к мировой славе, к вершине своего таланта, и гораздо труднее разделять счастье, успех, чем беду. Это только кажется, что беду труднее.