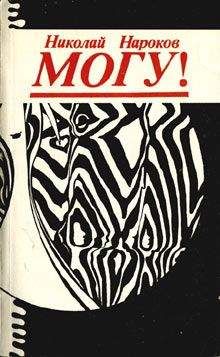Николай Нароков - Мнимые величины
Евлалия Григорьевна никак не ожидала этого «голубенькая» и сразу же вся вспыхнула. Она жалостливо посмотрела на Семенова, словно умоляя его не говорить этого слова, и губы у нее слегка задрожали.
— Почему вы… голубенькая? — невнятно спросила она.
— А это вас та чудесная старушка так называет! — кивнул в сторону Семенов. — Софья Дмитриевна ваша. А мне и понравилось: уж подлинно — голубенькая! Ну, да не в этом суть, а пишите вот расписку: получила, дескать, за перепечатку рукописи… Как она называется? Получила восемьсот тридцать четыре рубля, а за бумагу и копирку шестьдесят шесть рублей. Всего — девятьсот.
— Как так шестьдесят шесть? — испугалась Евлалия Григорьевна. — Рублей двадцать — тридцать, не больше!
— Пишите! — с ласковой строгостью приказал ей Семенов.
Он вынул из бумажника деньги, отсчитал и положил на стол. Потом достал из портфеля еще одну рукопись и, держа ее в руках, спросил:
— А эту не перепишете? Тут, правда, меньше, страниц двести, но ведь это не последняя. Такого добра сколько хотите, хоть бюро переписки открывайте!
— Я… — откровенно обрадовалась Евлалия Григорьевна. — Я, конечно, с удовольствием, но… но только я теперь не могу так скоро; мне теперь опять надо будет на службу ходить, и времени у меня будет уже меньше. И большое вам спасибо, Павел Петрович, но только…
— Что еще за «только»?
— Ведь это очень дорого, по два рубля. Я могу и дешевле!
Семенов опять покачал головой: укоризненно, но ласково.
— Эх вы, голубенькая! — и усмехнулся, и упрекнул он. — Этак вы мне всю коммерцию испортите, чего доброго! Я там хотел торговаться за вас, чтобы они вам по два с полтиной платили, а вы — дешевле! Дают, так бери, а бьют, так беги! — почти дружески подмигнул он. — А папаши-то дома нет, что ли? — резко переменил он разговор.
— Да, он ушел. У него…
— Какой он у вас…
— Какой? — сразу насторожилась Евлалия Григорьевна.
— А сынишка где же? — не ответил на ее вопрос Семенов.
— Он у Софьи Дмитриевны. Он уж так к ней привык, что от меня даже отвыкать стал. Я вот эти две недели все время дома сидела, потому что…
— Знаю. Чубук вам командировку дал.
— Знаете?
Евлалия Григорьевна насторожилась: ей показалось странным и неприятным то, что Семенов знает о ее «командировке». Почему-то получалось так, будто он к этой командировке причастен, чуть ли не сам ее добился. И она вспомнила, что у Чубука была острая лукавинка в глазах, когда он спрашивал ее о Семенове.
— Так, стало быть, сынишка у Софьи Дмитриевны? — опять увильнул от ответа Семенов. — Она у вас старушка славная… тепленькая!
— Она очень славная! — горячо подхватила Евлалия Григорьевна. — Она очень душевная и приветливая такая!
— Да, тепленькая… — повторил Семенов и вздохнул. — Бедует?
— Как… бедует?
— Бедно живет?
— Да, очень бедно.
Семенов поджал углы рта, и что-то нехорошее, почти злое пробежало в глазах.
— Как же это так — «очень бедно»? — чуть ли не вызывающе спросил он. — У нас — рост благосостояния трудящихся, у нас — зажиточная жизнь трудящихся, а вы — «бедно живет»! Мы же социализм построили и к коммунизму идем… Разве ж при социализме могут быть бедняки? — странным тоном, издеваясь над чем-то, спросил он.
— Я не знаю… — немного растерялась Евлалия Григорьевна, слыша его тон, но не понимая его. — При социализме, конечно… Но она очень бедно живет, очень! — убедительно добавила она и так же убедительно посмотрела прямо в глаза.
И ее ответ еще больше подмыл Семенова. Желваки под скулами разволновались и заходили.
— Что ж не помогаете? — несдержанно, с издевающимся вызовом бросил он и весь напрягся.
— Я… Мне не из чего было! — мучительно потупилась Евлалия Григорьевна, теряясь от его тона. — А теперь я… Эти деньги вот… Ведь Софья Дмитриевна мне все время помогала, она ведь за Шуриком смотрит, и я…
— Поможете теперь, стало быть?
— Обязательно! — с радостной искренностью сказала Евлалия Григорьевна.
— Это хорошо, что поможете! Надо, надо помочь! — зло сказал он. — Чаю, сахару, хлебца… Маслица для лампадки! Еще чего? Колбасы постной, что ли? — с открытой ненавистью спросил он и в упор посмотрел на Евлалию Григорьевну.
Его злоба была совсем непонятна. Что так злобно ненавидит он и над чем он издевается? А взгляд в упор был так силен, что Евлалия Григорьевна совсем потерялась и еле слышно проговорила невнятно:
— Я не знаю… Я…
— Не знаете? — с негодованием на что-то и с торжеством над чем-то подхватил Семенов. — А кто же знать-то должен? Кто? Кто? В обкоме партии спросить, что ли? В НКВД за справкой пойти? Если вот такие, как вы, не знают, так кто же знать-то будет?
Евлалия Григорьевна почувствовала себя виноватой, опустила глаза и съежилась. А Семенов перекинул в себе какую-то мысль и крепко выругался про себя ядреным словом. Неожиданная злоба, вырвавшись откуда-то, охватила его, и он не хотел ее сдерживать. Что озлобило его?
— Плохая жизнь теперь? Холодная? — впился он глазами в Евлалию Григорьевну.
— Холодная! — почти шепотом ответила она. — И страшная очень…
— Страшная? — громко, но одним только горлом, а не сердцем и даже не глазами захохотал Семенов. — Страшная? Ага!
И оборвал свой смех.
— «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей!» — словно что-то приказывая Евлалии Григорьевне, сказал он. — Вот оно как! А совсем не «страшная»!
— Нет! — неожиданно вырвалось у Евлалии Григорьевны. — Весело? Да нет же! Нет!
— Сам товарищ Сталин сказал, — с тем же огоньком продолжал мучить ее Семенов: — «жить стало лучше, жить стало веселее»!.. А вы…
— Я… — заметалась Евлалия Григорьевна. — Конечно, Сталин… Но…
— Что еще за «но» такое? — грубо выкрикнул Семенов. — Какое такое может быть «но»? Сталин же сказал! Точка!
Евлалия Григорьевна умоляюще подняла на него глаза.
— Холодно очень! — тоскливо сказала она. — Бесприютно! И люди кругом страшные… Люди другими стали!
— То-то же! — словно в чем-то убедил ее Семенов и сразу встал со стула. То-то же! — повторил он, а к чему он говорит и повторяет это «то-то же», никак нельзя было понять. — У Софьи-то Дмитриевны иконы висят и лампадка горит, а? Опиум! А вы вот здесь против слов товарища Сталина какое-то «но» возражаете? Контрреволюция! Эх, вы… Голубенькая! Да ведь вас и под ноготь взять даже нельзя, потому что и брать-то нечего, а между прочим, вы… смотрите! Зачем вы смотрите? — почти страстно выкрикнул он. — Муж-то ведь в ссылке? А сынишка-то ведь еще крохотный? А сил-то у вас нет? Так разве ж можно вам жить такой… голубенькой? Вы «Правду» читаете? На собраниях доклады слушаете? Сталинскую конституцию изучаете? Так ведь нечего, совсем вот нечего под ноготь брать!
Он судорожным рывком подхватил с пола свой портфель и, чем-то возмущаясь, со злым негодованием повернулся к Евлалии Григорьевне. А та совсем растерялась, ничего не понимая, пугаясь и его самого, и его слов. Но вместе с испугом было и другое: через его злое негодование она увидела его муку, которой он мучится, которую прячет и от которой бежит. И, ни о чем не думая, ни в чем не давая себе отчета, она очень нежно и ласково положила свою руку на его стиснутый волосатый кулак, которым он сжимал свой портфель.
— Нет, нет! — бессвязно залепетала она. — Нет, все это не то… Я не знаю, что — «то», но все это не то! Не надо! Не надо, милый Павел Петрович!
Семенов чуть отшатнулся от нее. Его взгляд наполнился большим вопросом, настоящим вопросом, который он не смог бы выразить никакими словами. Ни он, ни Евлалия Григорьевна не понимали этого взгляда, не понимали даже и того, что стоит за ним, а только смотрели друг на друга, ни слова не говоря. И вдруг, со странной, непонятной ясностью, Семенов увидел, что ответ на его вопрос есть, уже есть, но ответ этот может дать только Евлалия Григорьевна, и больше никто. Он сделал усилие над собой.
— Пора мне! — почти спокойно сказал он. — У меня ведь минуты-то считанные. Дела! — опять усмехнулся он такой усмешкой, как будто хотел посмеяться над своими делами. — Всего вам хорошего.
— До свиданья! — еле догадалась ответить она. Он отворил дверь и ушел.
Глава XII
Григорий Михайлович был очень заинтересован тем, что было, когда Семенов приходил к Евлалии Григорьевне: его интересовали не деньги и не новая работа, а то — «договорились ли они до чего-нибудь?» Он очень откровенно понимал и это «договорились», и это «до чего-нибудь», но ничуть не смущался и не стыдился, а только уверял себя: «Ведь все же можно сделать вполне корректно и даже изящно. Вот именно — изящно!» И боялся того, что «Лалка дура», что она «не сумеет» и «чего доброго, сваляет непростительного дурака!» — по своей манере, думал он именно этими словами.