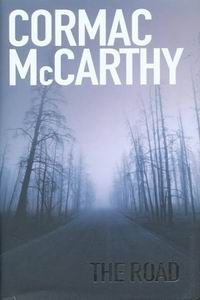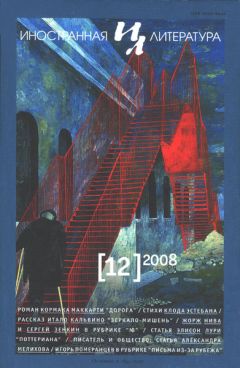Дзюнпэй Гомикава - Условия человеческого существования
— Да, он прав, — сказал пожилой мужчина, сидевший поодаль, — твоим передовицам недостает политической остроты.
— Вы забываете, для кого мы пишем, — покачал головой Ното. — Нельзя не считаться с психологией японцев.
— Так незаметно и пойдешь на поводу у масс.
— А что предлагаешь ты? Притягивать за уши революционную терминологию? А если концы с концами не сойдутся? — сказал Ното, повернувшись к смуглолицему.
— Как вы любите словечко «массы»! А известно ли вам, чем живут маньчжурские японцы?
— Как тут у вас шумно! — проговорила Митико, подходя к разрезавшей газетную бумагу Ясуко.
— Битый час из пустого в порожнее переливают. Можно подумать, что революции возникают из болтовни.
— Конечно, тебя наши споры не волнуют, — усмехнулся Ното, — ты в этих делах мало смыслишь.
Ясуко состроила презрительную мину, но Ното уже повернулся к ней спиной, продолжая прерванный разговор.
— Маньчжурские японцы — это не рядовые рабочие. Это рабочая аристократия. Они в подавляющем большинстве не только аполитичны, но и реакционны. Еще бы, в двадцать лет они уже покрикивали на китайских рабочих! Попробуй таких убедить в неизбежности революции…
— Минуту внимания, Окидзима! — крикнула Ясуко из своего угла. — Вы забыли, что у нас пустуют три колонки? Чем вы их думаете заполнить?
— Давайте напишем, что победа Народной армии на пороге, и дело с концом. Тогда уж никто не придерется!
— Да что вы! Это место оставлено для обращения. Кто напишет обращение?
Митико улыбнулась.
— А все-таки у вас тут интересно. Мне даже захотелось работать в вашей газете.
— Это было бы здорово! А то мне одной трудно, — воскликнула Ясуко. — Мужчины только и делают, что болтают, а помочь никто не догадается.
Митико заметила, что Ясуко сердится очень добродушно.
— Не стоит, Митико. В гражданской войне пока перевес на стороне гоминдановцев. Не сегодня-завтра они могут сюда пожаловать. Мы-то выйдем из положения, а вот эта сердитая особа останется на улице. И больницу гоминдановцы не тронут, так что лучше вам оставаться там.
— Что это за разговоры? — надулся смуглолицый. — Ты что, уже чемоданы складываешь? Потому-то нам и не верят городские власти.
— Хорохориться будешь, когда гоминдановцы придут! — зло бросил Окидзима. — Интересно, кто трясся от страха, когда в один город ворвались чанкайшисты?
— Я, что ли?
— А то нет!
— Перестаньте! — Ното сделал строгое лицо. — Не забывайте, что мы на совещании. Мне кажется, все же необходимо разъяснить властям положение вещей…
— Хватит спорить! — сказала Ясуко, снимая с плиты чайник. — Лучше принимайтесь за статью, я не собираюсь здесь ночевать.
Митико подошла к подруге:
— Как у вас тут оживленно. Когда Кадзи вернется, возьмите его работать к себе.
— Я с нетерпением жду его, — сказал Ното, — в нашем полку прибудет, и у Окидзимы появится сильный противник.
— А я с Кадзи давно перестал спорить. — Окидзима улыбнулся. — Ему и раньше на зубок было страшно попадаться, а теперь он вообще с клыками вернется.
— Тогда возьмите меня, — лицо Митико порозовело. — Если в город придут гоминдановцы, я уйду вместе с вами. Вы всегда найдете себе дело, а я не отстану от вас. Не беспокойтесь, Окидзима, посмотрите на мои руки — я могу и физическим трудом заниматься.
— Ну а я тем более перелетная птица, — сказала, улыбаясь, Ясуко. — Так что отправимся снова вместе, а то ты, чего доброго, сама с собой только и будешь разговаривать.
— Ну, тебе еще рано думать о будущем. Работать надо, — сказал Ното, — а я тем временем присмотрю тебе шикарного мужа из тех, сибирских…
— Только пусть он поменьше болтает и побольше работает.
— Из сибирских, да… — задумчиво протянул человек, споривший с Окидзимой. — И я бы туда не прочь поехать, если б, конечно, можно было оговорить срок.
— Кстати, о Сибири, — сказал пожилой мужчина. — Та старушка, что торговала пирожками, как-то на днях совершенно всерьез спрашивала, как дойти до Сибири, а сегодня, смотрю, идет, улыбается. Оказывается, сын вернулся…
Ясуко отчаянно замахала руками, но было уже поздно.
— Когда? — воскликнула Митико.
— Говорят, два дня назад. Больной лежит. Но мать без ума от радости!
— Вот вернулся же!
Митико хотела выдавить улыбку, но внезапно расплакалась. Ее лицо побледнело. Она пыталась сдержать слезы, но они безостановочно катились из глаз.
Окидзима положил руку ей на плечо.
— И он вернется…
— Да, да. — Митико шмыгнула носом. — Обязательно вернется…
36Дойдет ли он до того телеграфного столба?
Он смотрел на каждый столб. Они были вехами на его пути и сейчас вели по дороге, запорошенной снегом.
Кадзи был уже не похож на человека. Он шел, грязный, заросший, оборванный, вконец исхудавший. Лишь в глазах еще поблескивали упрямые искорки. Голодный барьер он уже преодолел, есть не хотелось, хотя он уже не помнил, когда ел в последний раз.
Воровать не осталось сил. Когда он просил подаяние, язык слушался плохо. Но мысли остались, он питался ими…
Кажется, это было три дня назад. На деревенской улице человек восемь здоровенных мужчин сгружали с телег мешки с зерном. Они даже не заметили проходившего мимо нищего в ветхой мешковине. Видно, были очень заняты своим делом, поэтому Кадзи подумал, что, если он попросит подаяние, его грубо оттолкнут, а то и дадут пинка. И он жестами объяснил одному из крестьян, что хочет помочь им.
— А подымешь? — спросил один, недоверчиво посматривая на исхудавшего Кадзи. — Больше ста дин весит…
Он снял с телеги мешок и взвалил на спину Кадзи. Каменной глыбой мешок придавил обессилевшего Кадзи. Китайцы рассмеялись.
— Это японец-нищий, — сказал один из них. — На, возьми!
Он кинул Кадзи кусок грязной пшеничной лепешки. Кадзи схватил кусок двумя руками и исступленно стал есть. Это было вознаграждение за муки и унижение. Только выжить — выжить во что бы то ни стало, иначе бессмысленно было бежать и брести по заснеженным зимним дорогам. Надо вернуться к жизни и начать все сначала. Он сам разберется в своем прошлом и сделает выводы…
Как в бреду, он шел, пошатываясь, от столба к столбу. Физически он ничего уже не воспринимал, но какие-то импульсы все еще трепетали в его душе, жили своей смутной, непонятной жизнью. Беспорядочные мысли сталкивались в разгоряченном мозгу и снова разлетались в стороны.
— Кажется, я еще иду. Но не сбился ли я с пути? Будто нет. Но куда ведет эта дорога — я уже не знаю…
— Неужели это я его так? Но, может, оживет, вылезет из выгребной ямы и еще пожалуется… А тот русский подумает, что я фашист…
Надо было бежать с Синдзе. Или в тот вечер скрыться за холмами, тогда Тасиро остался бы в живых…
Я убил много людей, но ты, Митико, не знаешь, сколько раз убивали меня. Не отворачивайся, я же иду только ради тебя…
А Тангэ будет шагать по Сибири. Он позавидует мне и презрительно сплюнет…
Митико, жива ли ты? Неужели ты умерла? Но об этом не надо думать, не надо…
Чему меня научили русские? Я все забыл. Ну да ладно, потом вспомню…
Митико, я иду к тебе. Я уже ничего не чувствую, но иду. От меня остались только ноги, они неумолимо идут вперед. Кажется, надо идти сюда… Заверну в эту деревню, выпрошу чего-нибудь и опять пойду к тебе…
До деревни было еще далеко. Кадзи добрел до нее только к вечеру. Свинцовое, тяжелое небо, казалось, вот-вот разродится снегом. Но для Кадзи больше не существовало ни ветра, ни снега. Сегодня уже дважды был снегопад, и Кадзи дремал по пять-семь минут, припав лицом к пушистой белой перине, покрывшей землю. Но он знал, что заснуть нельзя — это смерть. И он снова подымался и шел дальше.
Шатаясь, шел он по деревенской улице. Около домов стояли мужчины, женщины, дети, они видели Кадзи, но никто не сказал ему ни слова.
На перекрестке, в кособокой лавчонке старик варил пампушки с мясом. Кадзи внезапно почувствовал острый голод. Казалось, все органы его тела отмерли и только желудок распахнул свою пасть. Он пошел к лавчонке, словно притягиваемый магнитом. Если бы старик не глянул на него исподлобья гноящимися глазами, Кадзи схватил бы из таза пампушки и начал бы их есть, но старик был начеку и погрозил ему палкой. Кадзи рассмеялся, как помешанный. Белые, с гладкой кожицей пампушки, начиненные ароматным мясом, казалось, излучали жизнь. Съешь такую и шутя отмахаешь еще ри. До чего ж они, наверно, вкусны! Да это запас и на завтра. Надо съесть во что бы то ни стало! Кадзи указал пальцем на пампушки.
— Дай, — прохрипел он.
— Проваливай, скотина!
Кадзи опять рассмеялся безумным смехом.
— Идти мне надо. Далеко. Идти, понимаешь? Домой иду. Дай!
Старик выругался, но нищий не уходил, он должен поесть, от этой пампушки зависит его жизнь.