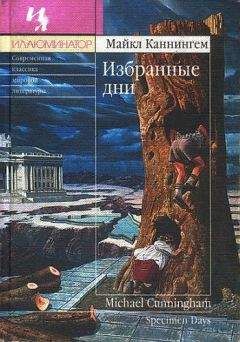Майкл Каннингем - Дом на краю света
Быстро — выдержка окончательно изменила мне — я положил руку ему на бедро. Он вздрогнул, поморщился, но не отодвинулся. Я сунул руку под полотенце и заметил, как по его глазам скользнула тень страха и удовольствия. Поскольку я понятия не имел, что делать, я просто продублировал те движения, которые применял к самому себе. Когда он напрягся и затвердел в моей руке, я расценил это как жест прощения.
Затем он протянул руку и с неожиданной нежностью прикоснулся ко мне. Мы не целовались и не обнимались. Джимми пел «Purple Haze».[10] Где-то в глубине дома гудели батареи.
Мы вытерлись потом салфетками «Клинекс» и молча оделись. Впрочем, едва мы оделись, Бобби снова раскурил косяк и снова заговорил своим обычным тоном об обычных вещах: об очередных гастролях «Грейтфул дэд», о наших планах заработать на машину. Мы сидели на полу в моей комнате и курили — обыкновенные американские подростки в обыкновенном доме, объятом скукой и пробивающейся зеленью огайской весны. В тот день я получил еще один урок: к любви между мальчиками, как ко всякой нелегальной практике, лучше всего относиться спокойно, будто к чему-то заурядному. Правила хорошего тона требуют избегать каких бы то ни было обсуждений и комментариев. И мы, несмотря на всю нашу неопытность и смущение, повели себя именно так — как чуткие прирожденные преступники.
Элис
Когда наш сын Джонатан привел его к нам домой, им обоим было по тринадцать лет. Он казался голодным, непредсказуемым и опасным, как бездомный пес.
— Бобби, — спросила я, в то время как он сосредоточенно поглощал жареного цыпленка, — ты давно живешь в Кливленде?
Его волосы напоминали наэлектризованное гнездо. На нем были ковбойские сапоги и кожаная куртка с синим выцветшим глазом на спине.
— Всю жизнь, — ответил он, обгладывая цыплячью ножку. — Я просто был невидимкой, а теперь решил стать как все.
Можно было подумать, что дома его вообще не кормят. Он оглядывал нашу столовую с такой неприкрытой жадностью, что на какое-то мгновение я ощутила себя ведьмой из «Ханса и Гретель». Я вспомнила, как ребенком в Новом Орлеане наблюдала за термитами, прогрызающими наличники на окнах в гостиной, и как изъеденные деревянные завитушки ломались потом в пальцах, словно кусочки сахара.
— Ну что ж, добро пожаловать в материальный мир, — сказала я.
— Спасибо, мэм, — ответил он без улыбки.
После чего снова вгрызся в цыплячью косточку с такой силой, что она треснула. Когда он ушел, я сказала Джонатану:
— Да, типчик. Где ты его нашел?
— Это он меня нашел, — отрезал Джонатан.
Характерной особенностью его переходного возраста стала несколько аффектированная лаконичность. Его кожа была еще совсем гладкой, а голос — по-мальчишески звонким, и, по-видимому, он решил, что самый верный способ казаться взрослым — это вот такая резковатая вескость речи.
— А где он тебя нашел? — мягко поинтересовалась я.
В конце концов, я всего-навсего наивная любопытная южанка. Даже теперь, после стольких лет, проведенных в Огайо, мне иногда удавалось извлечь выгоду из своего происхождения.
— Он подошел ко мне в первый же день занятий и с тех пор не отставал.
— По-моему, он какой-то странный, — заметила я. — Честно говоря, он меня даже немного напугал.
— Он с характером, — ответил Джонатан, явно давая понять, что обсуждение закончено. — Его старшего брата убили.
В Новом Орлеане у нас было специальное название для той социальной группы, к которой явно принадлежал Бобби и куда входили неблагополучного вида подростки, чьи родственники несколько чаще обычного умирали насильственной смертью. Тем не менее я не могла не признать, что характер у него действительно есть.
— Давай сыграем в карты! — предложила я.
— Не, мам. Не хочется.
— Ну, хоть разок. Ты должен дать мне возможность отыграться.
— Ну ладно, только один раз.
Мы убрали со стола, и я раздала карты. Но играла я рассеянно. Мне не давал покоя этот мальчик. С какой алчностью оглядывал он нашу гостиную! Джонатан забирал взятку за взяткой. Я поднялась наверх за свитером, но согреться так и не смогла.
Джонатан взял даму пик.
— Поосторожней! — воскликнул он. — Сегодня со мной шутки плохи!
Он так радовался выигрышу, что даже на время забыл о своем новоприобретенном хладнокровии. Я не могла понять, почему он не пользовался большей популярностью в школе. Он был и умен, и красив, красивее большинства мальчиков, встречавшихся мне в городе. Может быть, мое южное воспитание лишило его необходимой грубоватости, сделало слишком мягким и открытым для этого жестокого города на Среднем Западе? Впрочем, не мне судить. Какая мать хотя бы немного не влюблена в своего родного сына?
Нед вернулся домой за полночь. Я читала лежа наверху, когда услышала, как он отпирает входную дверь. Выключить свет и притвориться спящей? Нет. Скоро мне исполнится тридцать пять. Я приняла кое-какие решения, касающиеся нашего брака.
Я услышала, как он дышит, поднимаясь по лестнице. Я легла чуть выше и одернула ночную рубашку. Вот он в дверях нашей спальни — мужчина сорока трех лет, все еще привлекательный по обычным меркам. В последнее время он начал седеть — с висков, в канонической манере стареющего героя-любовника.
— Ты еще не спишь?
По его тону нельзя было понять, радует это его или огорчает.
— Не могу оторваться, — ответила я, указывая на книгу.
Ну вот, опять не то сказала. «Тебя ждала» — вот как надо было ответить. Однако не спала я именно из-за книги. Неужели, чтобы исправить нашу жизнь, необходимо постоянно мелко подвирать? Я продолжала надеяться, что это не так.
Он шагнул в комнату, расстегивая рубашку, из-под которой показалась волосатая, с проседью грудь.
— Похоже, «Избавление» для Кливленда все-таки чересчур, — сказал он. — Уже звонили несколько возмущенных родителей.
— Я вообще не понимаю, зачем ты его заказал, — заметила я.
Он снял рубашку и, скомкав, сунул в корзину для белья. Капельки пота поблескивали у него под мышками. Когда он повернулся, я увидела у него на спине обильную растительность, напоминающую своими контурами карту Африки.
Нет! Сосредоточиться на его доброте, на его мягком юморе! На его стройной фигуре.
— Ты что? Мне крупно повезло, — сказал он. — Это же будущий чемпион проката. На семичасовом зал был заполнен почти на три четверти.
— Ясно, — сказала я.
Я положила книгу на ночной столик. Получился глуховатый, но удивительно звучный хлопок.