Фредерик Бегбедер - Французский роман
В детском саду в Нейи мы ходили гуськом, держась за веревочку. Мы жили на первом этаже особняка, расположенного на тихой улице, окаймленной платанами и фонарями, под названием улица Сент-Джеймс (все произносили «Сен-Жам»), в доме номер 28. Здесь не было магазинов, здесь никто не шумел и даже служанки переговаривались шепотом. Наша спальня выходила в маленький садик, окруженный живой изгородью из бирючины и шиповника. На лужайке валялся перевернутый трехколесный велосипед. Кажется, еще там росла плакучая ива. Я пару раз специально ходил туда в надежде освежить свою память — ничего не освежил, только ива по-прежнему плачет. Я думал, что передо мной возникнут забытые картины, стоял, всматривался в газон, на котором сделал свои первые шаги, и ничего не узнавал. Но меня поразили безмятежность и покой, царящие на этой улице для богатых. Как это мои родители ухитрились рассориться, живя в таком тихом и мирном месте? Оно представляет собой жилой квартал, больше похожий на фрагмент идеальной деревни, перенесенный в парижское предместье. Легко вообразить, что ты в Лондоне, неподалеку от Гровенор-сквер, или в одном из двух американских городов — Саутгемптоне и Истгемптоне, где лужайки полого спускаются к Атлантическому океану (если за океан принять Сену). Мать рассказывала мне, что возила нас гулять в темно-синей коляске из роскошного детского магазина «Боннишон», на колесах со спицами и белыми ободьями. Однажды она столкнулась с актером Пьером Френе, жившим по соседству. «Какие прекрасные дети!» — воскликнул он. Это был мой первый контакт с шоу-бизнесом. Моя мать носила мини-юбку из шотландки светло-розового цвета; на некоторых фотографиях той поры она немного похожа на Нэнси Синатру в клипе-скопитоне «Sugar Town 1967»[38]. Нас с братом одевали как кукол от МоШ[39]; потом, когда мы чуть подросли и начали скакать и прыгать, у нас появились твидовые пальтишки с бархатным воротником, купленные в лондонском универмаге «Harrods». Увы, жизнь нашей семьи не переливалась радужными красками, как наши одежки.
Маме приходилось терпеть соседство свекрови-американки, которая имела обыкновение заявляться к нам без предупреждения, зато с коробкой конфет «After Eight». Тогда еще было не принято посылать куда подальше мать мужа, живущую на параллельной улице (Делабордер), когда она звонила в дверь, намереваясь преподать невестке очередной урок воспитания внуков. Кажется, Granny без конца критиковала нашу няню, немку, когда-то состоявшую в гитлерюгенде, — Анну-Грету, интересную и очень властную даму, у которой падение рейха ни в малейшей степени не отшибло любви к дисциплине. У меня в памяти сохранился образ существа, одетого во что-то зеленое, преимущественно шерстяное, и вечно что-то скребущего. Первые услышанные мной слова были произнесены с немецким акцентом. Иногда чистюля Анна-Грета вынимала носовой платок и, послюнив его, вытирала наши испачканные рожицы. В те годы носовые платки еще не делали из бумаги. Двадцатью годами раньше Булонский лес служил немецким офицерам излюбленным местом прогулок, но, вполне вероятно, Анна-Грета об этом не подозревала.
Разумеется, то, что ты родился в Нейи-сюр-Сен, вряд ли можно считать жизненной неудачей, однако этот уголок отнюдь не способствует формированию бойцовского характера. Мирная улица, тишину которой нарушает лишь чириканье воробьев да мягкий шорох шин английских автомобилей. Вероятно, мою коляску катали под деревьями парка Багатель, мне известно, что брат чуть не утонул в пруду Сент-Джеймс, куда, не умея плавать, нырнул, едва только мать на минутку отвернулась; иногда мне снится, что я опять скольжу в лодке сквозь этот таинственный розово-зеленый лес. Над головой плывут облака; спутанные ветви каштанов расчерчивают небосвод мелкой клеткой; я засыпаю, убаюканный шлепаньем весел по спокойной глади озера в Булонском лесу. Декорации моего раннего детства по-прежнему существуют, однако мне они теперь ни о чем не говорят. Лишь названия, словно принадлежащие другому веку, иной, далекой, стране, заброшенной и забытой, кажутся странно знакомыми… Большой каскад с искусственными утесами, который представлялся мне таинственным гротом, волшебной пещерой, укрытой за водопадом… Особняк «Пре-Кателан» и хоровод «седанов» возле подъезда мешаются в голове с виллой «Наварра» в По и вереницей машин на главной аллее… Нашим раем, нашим миниатюрным «Диснейлендом» был парк аттракционов — карусели в гирляндах разноцветных лампочек, клетки с пронзительно кричащими обезьянами, запах помета, аромат горячих вафель… «Шале-дез-Иль», деревянный дом, перенесенный из Швейцарии на середину озера, был целой планетой, вокруг которой, как спутники, кружились белые лодки, прокладывая себе путь между лебедями и кувшинками… Ипподром в Лоншане — разряженная толпа, автомобильные гудки, сломанная мельница, торговцы, продающие листки с прогнозами скачек, лошади, которых ведут взвешивать, море шляп и зонтов… Ресторан клуба «Голубиный тир» — огромные тенты, белые скатерти, дорожки, посыпанные гравием, хрустящим под детскими сандалиями, как раздавленный сухарь… Я на самом деле пережил все это или создаю историческую реконструкцию самого себя? В трех своих первых романах я назвался Мароннье[40], видоизменив фамилию матери, но также желая воздать должное Лесу, его деревьям, листве, рисующей на земле китайские тени, зеленым бликам цветущих каштанов на авеню Мадрид. Клуб «Поло де Пари», куда мой отец вступил в 1969 году…
В «Поло» ходили, чтобы позлословить о «Тире», в «Тир» — чтобы выразить свое презрение к «Рейсингу», ну а в «Рейсинг» — если не удавалось просочиться в один из двух вышеназванных клубов, нередко по причине еврейского происхождения. Метрдотели в «Поло» носили белые куртки, бассейн там еще не вырыли, брат учил меня лепить куличики в большой песочнице, и мы перестреливались каштанами с «богатенькими паршивцами» (так называла их мать) под шумовое сопровождение — глухой стук теннисных мячей и шуршание полотняных спортивных туфель по охряной утрамбованной земле… В памяти всплывает одна картина: игрок в поло, аргентинец, упал с лошади, матч приостановлен, по газону мчится «скорая», из нее выпрыгивают санитары, поднимают носилки, «скорая», белый «Ситроен-DS break» тут же уезжает, увозя покалеченного спортсмена, обутого в высокие коричневые сапоги… Белое и коричневое — цвета клубного здания, похожего на коттедж на Лонг-Айленде. Я разглядывал «скорую» в перевернутый отцовский бинокль, так что машина казалась маленькой ч далекой, как возникающие в моей памяти образы. Мы ели дыню, которую подавали на льду, и клубнику с густыми сливками (мода на взбитые сливки пришла позже) и немного смущались, когда Granny принималась по-английски проклинать медлительных официантов. Сидя в отъезжающем домой «бентли», я оборачивался, чтобы через заднее стекло полюбоваться на «Трианон» в парке Багатель или на построенный в 1920 году, а потом заброшенный и ставший приютом скваттеров замок Лоншан с его странной зубчатой башней, напоминающей башню Вогубера, — и серый дождь постепенно поглощал это средневековое видение… Теперь в Багателе звонят мобильники, рычат гоночные мотоциклы, орут подростки, играющие в футбол на лужайках, семейки жарят на углях сосиски, а из ghetto-blasters, включенных на максимальную громкость, разносится «Womanizer» Бритни Спирс. Попытка приехать сюда на старой английской машине сегодня будет выглядеть как чистый выпендреж, а сорок лет назад Булонский лес оставался точно таким, каким Пруст описал его в начале века. Позже я часто наблюдал здесь всякого рода ралли, теннисные матчи, заплывы в бассейне и фелляции транссексуалов. Лес утратил шарм шестидесятых: на заднем сиденье высокой серой отцовской машины не было и духу трансформизма, зато в ней были откидная ступенька, столики красного дерева, музыка Джоан Баэз[41] и запах старой кожи. И еще в ней рядом со старшим братом сидел мальчик, слишком надежно защищенный от всего на свете, как золотая рыбка в аквариуме.
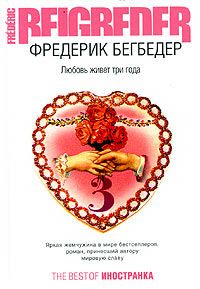
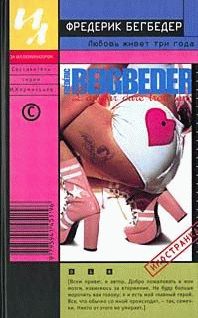
![Фредерик Дар - Глаза,чтобы плакать [По моей могиле кто-то ходил. Человек с улицы. С моей-то рожей. Глаза, чтобы плакать. Хлеб могильщиков]](/uploads/posts/books/148319/148319.jpg)

