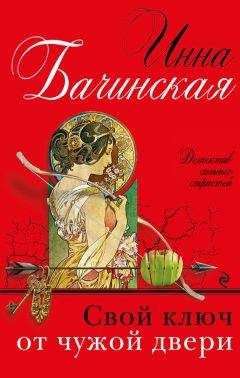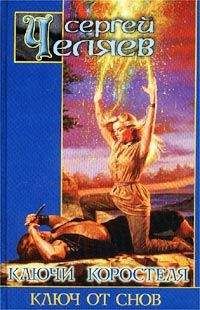Сергей Стешец - Кроме тебя одного
Кешка, спавший с поджатыми к груди коленками, был похож на большого ребенка, которого сон застал врасплох, во время игры. Он и на самом деле в эту минуту был ребенком, потому что снилась ему мама. Будто пришел он откуда-то голодный и уставший к себе домой, и дверь ему открыла еще молодая мать со своей извечно грустной улыбкой. «Господи! Исхудал-то как!» — всплеснула руками мать. Кешка прошел в хату. В ней все, как и раньше было: стол, кровать, диванчик, шифоньер, печь. На печи в нижней рубахе и кальсонах, свесив босые волосатые ноги, сидел знакомый Кешке мужик. «А это кто на печи сидит?» — спросил он у матери. «Так Потапенко это. Я с ним живу теперь. Ты не узнал разве?» — «Проходь, проходь!» — приказал ему Потапенко. Кешку парализовало от страха — он вспомнил вдруг, что и мать, и Потапенко — мертвые. Он хочет закричать, хочет из хаты выскочить, а мать крепко за руку держит его, ведет к столу, ласково выспрашивая: «А как там внучек мой, Вовочка? Не хворает ли? Я ведь его не видела совсем, ты приведи его». Кешка вырывается и не может вырваться. «Пойдем, сыночек, я тебя в бадейке искупаю. Весь-то грязью зарос, а еще взрослый мужчина!» А Потапенко на печи хохочет: «Грязный! Грязный он!»
— Кешка, Митяй, подъем! — разбудил его громкий голос.
Это Ефименко с фонариком стоял на пороге фуражного склада. «Ну, счас начнется!» — с тоской подумал Кешка, еще не совсем отойдя от дурного сна.
— Поспать не дадут! — заворчал в пороге Митяй и за это получил пинка. Кешка предпочел по-армейски выскочить из постели — все равно этого не минуешь.
— Дрыхнете, стервы задрипанные! А у Бориса Ивановича голова раскалывается! — возмутился Борька и спросил почти ласково: — Бормотушки не осталось?
— Откуда? Все выпили, — ответил Митяй.
— Вот скоты! Ни стыда, ни совести у людей! А еще выпить не желаете?
— Не хотим, — сказал Кешка. — Нам бы поспать — завтра на работу.
— А Борис Иванович что, груши околачивает? Ему тоже на работу, но он выпить хочет. Обувайтесь!
— Зачем? — недоумевал спросонья Митяй.
— Вот вам шесть рваных. Митулем — в Кендыкты, постучите к бабе Марте, возьмете два пузыря самогона. Один — вам, один — мне. Честно?
— Честно, — ответил Кешка. Он понял, что от Борьки им не отвязаться. Хорошо еще — кулачищи свои в дело не пустил.
Кешка с Митяем поплелись в степь. Свежий ночной ветер быстро согнал с них сонливость. С вечера прошел небольшой дождь, идти по влажному ковылю было приятно. Кешка обут был в старенькие штиблеты на босу ногу, и роса обжигала пальцы ног. Он теперь уже не злился на Борьку, это даже неплохо, что они прогуляются по свежему воздуху, а потом выпьют по полбутылки самогона. Время, судя по беззвездному небу, еще раннее — где-то около полуночи.
Митяй шел рядом молча, похлестывая таловым прутом себе по икрам, а Кешке вспомнился сон. Он показался ему вещим, потому что в нем очень причудливо соединились две несовместимости — его мать, умершая десять лет назад, и Потапенко, убитый позапрошлой зимой.
Неужели покойники приходили за ним, неужели они почувствовали близкую его смерть? У Кешки холодные мурашки пробежали по спине. Он боится смерти? Он, не однажды почти решавшийся на самоубийство? Разве ему есть чем дорожить в этой жизни, что он боится умереть? А вот этой упоительной ночью, летним дождем? Чем еще? Господи!
А не укором ли приснилась ему мать? Она укоряла его за то, что бросил сына, за то, что скрыл убийц Потапенко. Она оставила свою неухоженную могилу в Липянах, чтобы прийти и отмыть его от грязи. Боже мой, видела бы она его сейчас, вдруг воскреснув! Мать тут же умерла бы во второй раз от горя и стыда.
Вспомнив сон, он испортил себе настроение, и уже роса казалась холодной и гадкой, ветер — занудливым, а беззвездное небо — зловещим. Кешка ненавидел эту ночную степь, ненавидел Митяя, шмыгающего где-то рядом, справа, простуженным носом, ненавидел себя.
Вернулись они скоро, потому что старая немка Марта, делавшая небольшой ночной бизнес, не ломалась, с готовностью всучила бичам две бутылки самогонки молочного цвета, вежливо пожелала приходить еще, когда «совсем» захочется выпить.
Борьки, как он обещал, возле дома, в котором жили шабашники, не было. Кешка с Митяем в нерешительности топтались у двери, совещались. Разбудить шабашников — это значит получить пару крепких тумаков от бригадира, но и Ефименко назавтра мог наказать еще хуже.
«Долго ли я буду перед ними налимом извиваться?! — разозлился на себя Кешка. — Я же, бляха-муха, не лучше шестерки паршивой!»
С каким удовольствием он сейчас хрястнул бы бутылку об угол и ушел в степь, чтобы никогда больше не возвратиться на свиноферму. Нет, за что бутылку гробить? Бутылку он, пожалуй, с собой бы забрал, назло свинье этой — Борьке.
Пока он думал, Митяй тихонько, больше для алиби наутро, постучался. Как ни странно, но открыли быстро, и сделал это Курлович.
— Случилось что? С Булатом плохо? — удивленно спросил он.
— Да не возьмет Булата шайтан! Нам Борьку нужно — он за самогонкой посылал, — ответил ему Кешка.
— Понятно, — усмехнулся Сергей. — Гонцы прибыли! А Борька, не дождавшись, уснул. Давайте, я утром отдам.
— На, — обрадовался Кешка — ему не улыбалось встречаться с Ефименко.
— Эх вы, мужики! Да что ж вы помыкать собой позволяете?!
«А пошел бы ты! — ругнулся про себя Кешка. — Тебе хорошо выпендриваться — свояк Арнольду как-никак!»
Но ведь прав Курлович — дерьмо они с Митяем.
Подходя к фуражному складу, они услышали плач. Тоненько подвывая, давился слезами Ваня. Митяй рванул с места, заскочил в склад, зажег коптилку, которую сам смастерил из консервной банки — Арнольд в первый же день выкрутил все лампочки, чтобы бичам жизнь малиной не показалась.
В углу, сгорбившись, сидел Ваня; острые лопатки его, прокалывающие грязную майку, вздрагивали.
— Что, Ваня? Что случилось? — забеспокоился Митяй, который, несмотря на частые ссоры, был привязан к своему сожителю.
— Борька, гад! — всхлипнул тот. — Вы ушли — он явился.
— Что он сделал? — допытывался Митяй, но Ваня не ответил, расплакался, как ребенок, размазывая грязные слезы по лицу.
— Понятно. Ну, скотина! — Митяй скрипнул зубами.
— Мне ни хрена не ясно. Бил его, что ли? — спросил Кешка.
— Какой нафиг — бил! — закричал на Кешку Митяй, будто в случившемся был виноват именно он. — Он же, падаль вонючая!.. Не дошло, елки-палки?
До Кешки дошло, и чувство брезгливости — такое непривычное для бича, — тошнотным комком подкатилось к горлу.
— Козел, падла, боров нелегченый! — Кешка от злости заскрипел зубами. Тошнота подступила к горлу. Он понял, что никогда уже не избавится от этого чувства брезгливости, не сможет встречаться с Борькой, проходить мимо него без презрения. — Это скоту даром не пройдет!
— Напугал бабу толстым!.. Положил он на твои угрозы! — горько усмехнулся Митяй. — Не плачь, Ванюша! Завтра мотаем отсюда!
Нет, подумал Кешка, мало уйти из шабашки — это они могут сделать хоть сейчас. Кто же тогда отплатит Ефименко за его свинство? Он, Кешка-бич, презренный отброс общества, почувствовал сейчас себя неизмеримо выше Борьки, ибо осталось в нем, биче, что-то человеческое — доброта, сострадание, пусть не в той мере, в какой должно быть, но все-таки…
Он не хотел сейчас ковыряться в своей душе, он, может, тоже жил грязно, подло, по-скотски. Если кому судить по высшей мерке его, то только ему самому. И ему захотелось сейчас же пойти к шабашникам, пинками разбудить Ефименко и харкнуть ему в рожу. Только так он может выразить свое презрение. И только ночь помешала сделать это.
Утром следующего дня Кешка проснулся рано — еще не рассвело. Лежал, укрывшись с головой байковым одеялом — согревался. Июньские ночи в тургайских степях холодны, особенно промозгло туманными рассветами. Мало что холодно — так еще и сквознячок по фуражному складу разгуливал.
Не меньше часа еще до подъема, но Кешке не спалось. Он проснулся с неясной тревогой, и с каждой минутой она нарастала — от тревоги ли, оттого, что укрыт был с головой, становилось все труднее дышать. Он отбросил одеяло, сел, подобрав колени к подбородку.
Что-то сегодня произойдет. Сегодня обязательно что-то произойдет. Он почувствовал рождение в себе какого-то нового состояния; что-то тяжелое, гнетущее его долгие годы, оборвалось в нем, ему вдруг сделалось легко и понятно все, не мешала даже тревога, наоборот, — от нее возникли такие ощущения.
Кешка был уверен, что сегодня ввяжется в неравную схватку с Ефименко. Неизвестно, чем все это кончится, но он не боялся ее, не готовил себя к ней, потому что был готов уже вчера, то есть уже сегодня ночью. Как мало нужно такому, как он, чтобы почувствовать себя человеком, — всего лишь осознание, что кто-то пал ниже тебя, что ты не последняя гнида на земле.