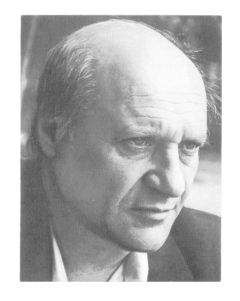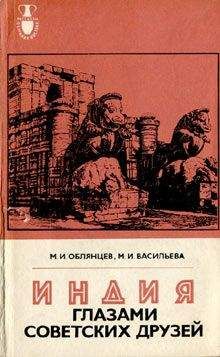Виктор Мануйлов - Распятие
А в степи… Вон в небе кружит беркут. Он ходит царственными кругами, он видит тебя, ты видишь его. Вон мелькнул огненный хвост лисицы с белой кисточкой на конце, и долго можно любоваться ее вольным бегом и замысловатыми прыжками возле сурчиных нор. А вон среди метелок ковыля поднялась бородатая голова дрофы, оглянулась и снова пропала: значит, там гнездо или, скорее всего, маленькие дрофинята кормятся под присмотром матери, потому что голова то появляется, то исчезает, медленно перемещаясь в сторону. А вон еще какая-то темная тень скользит среди травы и кустиков перекати-поле, то замирая на одном месте, до двигаясь дальше… Смотри и будь внимательным — и многое увидишь в степи, о многом она расскажет.
Я раскинул руки, вдохнул всей грудью: хорошо, черт возьми! Сколько безмятежности и силы в этом просторе! Сама вечность смотрит на меня каждой своей пылинкой, и сам я часть этой вечности! Так и кажется, что вот сейчас на увал вымахают степные кочевники и с гиком понесутся на запад — до края Ойкумены. А за ними потянутся скрипучие арбы, запряженные верблюдами, отары овец и степных кобылиц с жеребятами. Кто они? — гунны, тюрки, скифы, сарматы, хазары, половцы, татары? Пройдут и сгинут, растворятся в степи, поглотятся другими народами. Только здесь вершилась и все еще продолжает вершится настоящая жизнь, а не в затхлой Москве, где на всем лежит печать фальши и лицемерия — даже на любви и ненависти. Оставь тот мир, вернись в мир, который вырастил тебя и выпестовал, и ты снова станешь человеком!..
Но тут взгляд мой упал на серую ленту шоссе, разрывающую степной простор надвое, на убогие домишки и полураздавленную гусеницу скотного двора, приткнувшегося к шоссе, на машину, допыливающую последние метры по проселку с упорством какой-нибудь козявки, — и всплеск восторга в душе моей угас так же быстро, как и возник. И сам я показался себе безмозглой козявкой, и все что было до меня, и все что есть и что будет, потеряло смысл. Разве для этого водил свой «петляков» старший лейтенант Баранов и бросал его в пасть прожекторов и плюющихся огнем зениток? Разве ради этого шли в ночной рейд на высоту 196, что у хутора Горелого, гвардии сержант Иванников и гвардии капитан Скучный? Нет, не ради этого. Они наверняка думали, что после войны все пойдет по-другому, все станет лучше и чище, потому что чище стали они сами, а чистые люди наверняка создадут чистую и красивую жизнь. Наивные люди! Где она, красота? Везде одно лишь убожество и серость. И чем дальше, тем больше.
И мне вспомнилось, что когда-то я тоже был наивным и верил в людей, в чистоту их отношений и помыслов. И вдруг понял — через четырнадцать-то лет! — почему ушла от меня Галка: она лучше моего знала жизнь и не витала в облаках, ей нужен был человек твердых правил и убеждений — неважно каких.
Ну и слава богу, что ушла. Если бы не ушла, я не купил бы велосипед, а без велосипеда я не смог бы встретиться с Дмитро Сэмэнычем, с дедом Осипом и другими. А какой у деда Осипа был душистый чай и пахучий мед! Я до сих пор помню эти запахи. Как и его глуховатый, чуть надтреснутый голос.
Помню, как после чаепития в его шалаше мы шли с Дмитро Сэмэнычем в станицу, как он убеждал меня встретиться с какой-то теткой Лукерьей, как мы пришли к его хате…
19. Май 1960 года. Суббота, ближе к полудню
Хата Дмитро Сэмэныча стояла на самом краю станицы, а край станицы упирался в овраг. Вот и шли мы вдоль этого оврага узкой тропкой: Дмитро Сэмэныч впереди, неся на плече косу, как солдат винтовку, а я за ним. С одной стороны густые заросли полыни и лебеды, с другой — поднявшаяся уже почти до пояса кукуруза: два зеленых войска напротив друг друга. Полынь и лебеда цвели, и мои ноги скоро стали желтыми от их пыльцы. Потертые шорты, сооруженные мною из штанов, которые носить было уже неловко по причине их ветхости, но годные еще в новом качестве, теперь до последней крайности смущали меня, и я старался не думать о том, как в этих шортах предстану перед домашними Дмитро Сэмэныча, людьми наверняка консервативными и порицающими как узкие брюки, короткие юбки, так и шорты. А тут с голыми ногами, исцарапанными, исжаленными крапивой, волосатыми и припудренными желтым — и в гости.
Похоже, и сам Дмитро Сэмэныч чувствовал себя не в своей тарелке и, видимо, только поэтому вел меня огородами вдоль оврага, где редко кого можно встретить. Он шел впереди меня чуть ли ни задом наперед и громко рассуждал по поводу развития спорта вообще и велосипедного в частности.
— Цэ колы у сильпо зъиздыть за чим-нэбудь — одно дило, а щоб з Ростову — цэ дило друге: и коленки треть, и штани об цэпь маслются. Ось я и кажу: коротки штани спидручнее. Цэ стары люди не разумиють… Да бабы, мабуть. Ничого, приобыкнуть. Так шо ты, Серега, иди, не бойсь. А як до тетки Лукерьи пидымо, так я тоби свои штани виддам. Нови штани, у Ростови на толкучке купував. До празднику ще… — великодушно пообещал Дмитро Сэмэныч, когда мы перебирались с ним через невысокий плетень, за которым и начинались его владения. — Ось трэба калытку зробыть, — извиняющимся тоном проговорил он, пытаясь помочь мне перенести через лаз велосипед, — та всэ якось то одне, то другэ… Всэ якось…
Вообще, чем ближе мы подходили к его дому, тем слышнее звучали в его голосе извиняющиеся нотки, словно он стыдился за свое деревенское житье-бытье, так отличающееся от городского, за возможное недоумение своих домочадцев и еще бог знает за что. А тут еще, едва мы вышли из-за вишенника, слева стукнула дверца, из деревянной будочки-скворечника показалась девчонка лет пятнадцати-шестнадцати. Увидев меня, она замерла, черные глаза ее расширились, машинально она прикрыла за собой дверь и повернула деревянную вертушку, одернула короткое линялое платьице и вдруг, коротко вскрикнув, сорвалась с места и кинулась бежать к дому, мелькая загорелыми ногами.
Дмитро Сэмэныч смущенно закашлялся, словно я стал свидетелем чего-то дурного, и, отводя глаза в сторону, пояснил:
— Цэ дочка моя, Светкой кличуть… Пьятнадцать рокив тильки. Перелякалась трошки. Нэчого, цэ дило такэ, що всим трэба, — и кивнул на деревянную будку-скворечник.
Я сделал вид, что ничего не понял, и принялся нахваливать его огород и сад, где все было ухожено, разбито на аккуратные грядки, деревья побелены, обрезаны, а места срезов закрашены чем-то синим. Дмитро Сэмэныч обрадовался моей похвале как ребенок, и пока мы медленно продвигались по его саду-огороду, останавливаясь у каждого кустика и каждой грядки, рассказывал мне, что за сорт лука или редиски растет на грядке, где он раздобыл семена, в какой день сеял и сажал, где и как выращивал рассаду помидоров, сколько снимает с куста, — и многое другое, и всякий раз изумлялся, если выяснялось, что и я кое-что смыслю в садово-огородных делах.
За это время, что мы изучали сад-огород, домочадцы Дмитро Сэмэныча успели, надо думать, придти в себя и подготовиться к встрече нежданного гостя, а я смирился с тем, что мне предстояло.
Так мы подошли к дому, обычной хате, какие строят в этих местах из саманного кирпича. Хата была невысокая, с маленькими окошками, с белыми занавесками и горшками герани на подоконниках. Точно в такой хате жили и мы с матерью во время войны в станице, затерянной в безбрежности Сальских степей. Наверняка и пол здесь тоже земляной, и расположение комнат такое же, и печка большая посредине, и полати сбоку от нее, и сундук при входе, и старый комод, и машинка «зингер» на маленьком столике, и деревянные табуретки, и рамки с семейными фотографиями, и иконы в углу, и лампадка пред ними, и абажур на витом шелковом шнуре под потолком…
Вот только веранды в той станице не было, а у Дмитро Сэмэныча была: крохотная такая верандочка, выкрашенная в голубой цвет…
За стеклами верандочки мелькнуло чье-то лицо над белыми занавесками, открылась дверь, и на приступках появилась невысокая женщина, полноватая, но не слишком, в ярком крепдешиновом платье, в цветастой косынке, с милым круглым лицом, с черными глазами, немного испуганными и удивленными, как у Светланки, которой «тильки пьятнадцить рокив».
— Ось, — удовлетворенно повел в ее сторону рукой Дмитро Сэмэныч, — цэ моя жинка, Галына Митрофановна. А цэ ось — цэ хлопчик з Ростову. Вин интересуется, як туточки у войну було, при германьце… то ись для истории, щоб ось як воно туточки робылось и яка тут життя была. Сергием кличуть, зовуть то ись, — представил он меня.
Я церемонно поклонился.
Испуг и изумление в глазах Галины Митрофановны пропали, она всплеснула руками и, с жалостью глядя на мои голые ноги, заговорила певуче:
— Та шо ж вы на лесопеде-то? Да до нас же автобусы ходют! Да по такой жарюке! Да по такой пылюке! Да вы ж, наверно, устали! Да вы ж, наверно, исты желаете! — и напустилась на мужа: — Митя, та шо ж ты стоишь? В бочке вода уж согрелась! Полей товарищу Сереже! Я счас рушник принесу… А как же вас по батюшке?