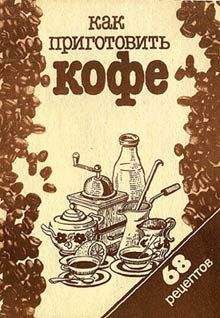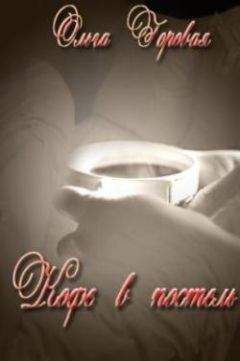Олег Юрьев - Прогулки при полой луне:
Но окончательно я понял, что мне от нее никуда уж не деться, это когда в простуженной мюнхенской закусочной, полной вежливого гитлерюгенда, она запустила ко мне по длинному столу глиняную тарелку картофельного салата — замороженного до зубного лома сернистого пюре с ветхими луковыми перьями — и погладила себе верхние ноги растопыренными ладонями в кружавчатых кармашках короткого фартука. Почему-то почти во всех остальных случаях жизни она случалась парикмахершей, сеющей неподвижные замороженные мурашки внутри обвернутого белым куколем тела и перерезающей своими внешне бесцельно полязгивающими в воздухе ножницами спутанные ниточки времени в ближнем вокруг, — а почему так? — спросите у Самсона. Наверху через каждые пять минут хлопала с лязгом всех задвижек и звоном всех цепочек тесно проклепанная желтыми и белыми полушарьицами дверь квартиры — Ариадна Моисеевна, бабушка, высовывала моментально зябнущую голову в редких синих кудеречках и ушлепывала по-новой — мыть с керосином маленькие дрожащие руки: для контрольного осмотра. «Какие заседания стали длинные», — бормотала она себе под нос, дробно скользя к ванной по глаголю лакированного коридора. Я между тем уже дошел до предгорий Синьцзяна.
Девонька милая, девонька славная, девонька — радость моя, — напевал я, проходя с легким хрустом по высоким бессветным дворам Толстовского дома. Облачко у моего рта облеплялось прозрачными снежинами и оседало. В черном мускулистом небе летело наискось газовое вымя луны. Я улыбался, вспоминая маленькую пуговицу, застегивавшую батничек на самой нижней перемычке (чтобы спинка не морщила): — шелковый путь превратился бы в кругосветное путешествие, кабы моя рука могла бесконечно удлиниться, как у вампира. Я нажал на эту пуговичку, попытался (напрасно) раскачать ее в шелковой петельке, и девонька — радость моя вздохнула всем своим счастливым бычьим личиком в лестничном подталом свеченье.
И уже, кстати, было пора — Ариадна Моисеевна как раз набрала справочное городских моргов и больниц.
Одесский рассказ
На Дерибасовской группами по трое стояли дерибасы.
В окне продмага маленький мальчик, жуя, пил сок. Две кипарисные тусклые ветки лежали на подоконнике крест-накрест поверх пыльно-блескучей ваты и пахли внутрь магазина лакрицей.
С Потемкинской лестницы специальная старушка в стеганой фуфайке каждые полторы минуты сталкивала детскую коляску. Мамки вверху чинно двигали очередь приставным шагом, а папки внизу грудились, хохоча, и ловили. Это стоило рубчик.
Под широкой черногранитной бородой значилось Карлу Марксу от жителей Центрального района.
По низким улицам перелетали со скрипом и треском различные небольшие бумажки.
Вослед за бумажками перебегали карликовые украинцы, старательно изображая евреев.
В подземном переходе жестковекий еврей с обернутым взбитой марлей длинным горлом (старательно изображая украинца) вырезывал желающие силуэты из крутящихся вокруг ножничного перекрестья матовочерных листков. Это стоило рубчик.
Город был в четыре слоя покрыт выцветшим йодом.
Черное море, шипя и качая бумажки, наскакивало на стадион «Черноморец». По парку имени Тараса Шевченко маршировали коренастые пионерки в синих юбках и тяжелых морщинистых сапогах. Два пионера с автоматами стояли у обелиска и смотрели перед собой.
Премьера «Морозко» откладывалась до весны по проискам интриганов и антисемитов. Падла-снегурочка ушла в декрет. Режиссер Чичюкович с горя глодал бледную крупнозернистую кукурузину, натерев ее промежду волос серой солью. Это стоило рубчик.
Я вставал среди ночи с гулко звякавшей и охавшей всеми своими пустотелыми косточками раскладушки. В окно узко втекала перемазанная облачным йодом луна. Освещенный ею Чичюкович спал с краю полуторной тахты, высунув вздутые пяточки из-под одеяла и задрав мшистую руку на невидимую жену. По тараканьей дорожке, поплескивая луной в цинковом ведре, я выбирался в коридор. Я чиркал спичкой и отыскивал нужный выключатель. Двадцать восемь лампочек тремя гроздями выглядывали из дозорного оконца тупоугольного сортира. Двадцать восемь овальных сидений в три ряда висели на гвоздиках по длинной стенке. Остальные стенки были короткими. Напоминало Русский музей. Я снял цельнолитное, тяжелое, рыжее с темными крапинками, на котором было мелко процарапано и засинено химическим карандашом Чич-вичи. С потолка в горшок капнулись два продолгих таракана и — шевеля усами и ерзая полупрозрачными янтарными спинками — завязли в говне. Я столкнул их в бездну заостренной палочкой и досыпал немножко мелкозернистой и пузырчатой воды из ведра. И пошел досыпать. «Вы актриса или вы кто?» — шмелиным баритоном корил Чичюкович декретную снегурочку. Рабочий, стаскивавший со звякающих раскладушечных штанг морозкиной декорации голубые простыни, апплицированные станиолевыми снежинами, заметил, проходя: «Мораль сей басни такова — в гондоне дырочка была». Чичюкович — рыжий конек-горбунок в кожаной сбруйке — одобрительно заржал. Снегурочка, пожимая ливерными плечами и поправляя мизинцами тонкие волосяные серпантины на лбу, вяло оправдывалась, что а шо такое, они, дескать, с мужем вывешивали постиранные hондончики за окно сушиться, а какие-то hады возьми их и утарань. «Чи горобець, чи сокил», — сказал рабочий на обратном ходу за полутораметровым американским шпионом с растопыренно дрожащими поролоновыми конечностями и круглой рукояточкой в спине. Бурые шпионские патлы клоками торчали в стороны и вперед, на полном брезгливом лице криво сидели большие очки. «В общем, товарищ Горобец, — сказал Чичюкович, — вы своей невоздержностью погубили мою самую пронзительную постановку. Я не могу стерпеть до весны и уезжаю в Джезказган ставить «Конька-горбунка». Толстая снегурочка повалилась на сцену и горестно зарыдала. И мы с Чичюковичем сели в трамвай с надписью Запрещается гражданам высовывать голов из окна и поехали на Молдаванку писать пьесу про декабристов.
…В этом черном, жирном, как будто прорезиненном доме мой прадедушка держал зубоврачебный кабинет. К нему ходила Сонька Золотая Ручка вставлять зубы любовникам. Себе так и не вставила, всё говорила успеется, в результате чего доктор Чехов и задокументировал ее на Сахалине без зубов. Теперь одна из комнат в прадедушкиной практике принадлежала режиссеру Чичюковичу. Он ее честно высидел, тринадцатилетним мальчиком на полные сутки запертый здесь с мертвой тетей Фирой, пока родители метались по конторам, оформляя родственный обмен. Тетя Фира, завернутая с головой в пожелтевшие по складкам простыни, пахнула все жирнее и слаще, все жирнее и слаще, а иногда сухо и отчетливо пукала. Маленький Чичюкович боялся ее и сидел у двери, глядя в замочную скважину. Иногда в дверь стучались, и Чичюкович тоненько кричал в сторону: «Тетя Фира! Тетя Катя Доценко пришла за здоровье узнать и с Новым годом поздравить. Пустить?» Отбегал к окну и ворчал оттуда с хрипами: «Хай она кус мир ин тухес». — «Шоб ты сдохла, старая крыса», — бормотала тетя Катя Доценко, отходя. В окне скрипела ветреная южная зима. Жена Чичюковича, наклонив гладкую голову с несколько отставленными ушами, похожими на морских коньков, внесла кастрюлю салата-оливье. Мы сели, держа в полусогнутых руках длинные фужеры, через край полные добротно-щекотного советского снегу. Заснеженный телевизор сыграл свою полночную песенку без слов. Мы начали разгибать руки к середине стола. Пенки падали в оливье. По двери застукотили требовательно. С неотпитым фужером чичюковичевская (еще два месяца, а в Джезказгане он, конечно, женится на эстонке) жена выглянула. «Чичюкович, достань еще тарелки — пришла тетя Катя Доценко поздравить с Новым годом. Принесла чечевицы». А помнишь, товарищ, домашнюю елку-горняшку со сбитым подолом? и другую — мрачную цыганскую барыню в актовом зале школы? Помнишь ангинозную мусорную вату магазинных витрин? и выбитые до сверкающей кости черепа площадей? Пионерскую кожуру мандаринов? Лимонадное онемение в переносице? Пожилую снегурочку с пятнистыми пятиугольными менисками, которую все никак не могли окончательно доукрасть ни волк, ни Кощей, ни американский шпион? Не-могли-не-могли, а вот все же украли! …А мы, еще существующие граждане уже не существующей державы, всё еще подданные правительственнобрового Деда Мороза, с вечным нашим национальным кличем Раз-два-три, елочка гори! — за ней, за снегуркой, рванули в чужие края: не сидит ли она, старенькая, беленькая, в бумажном кокошничке с продресью из битого стеклышка, где-нибудь в уголку на каком-нибудь вокзале лиловой декабрьской Европы, ожидая объявления по трансляции: «Фрау Снегурочка! Пионерская дружина школы № 216 Куйбышевского района города Ленинграда ожидает Вас у пригородных касс».