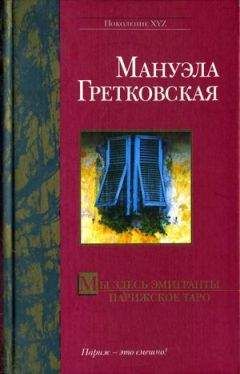Мануэла Гретковская - Парижское таро
— В прошлом году, дядя, перед самым Рождеством Ксавье подхватил грипп. Обычно он разделывается с этим делом к концу ноября. Мы надеялись, что он успеет выздороветь и мы приедем в Пуа, но за два дня до праздников температура подскочила под сорок. Чтобы его побаловать, я решила устроить польское Рождество — двенадцать блюд: вареники, заливное, борщ… Мы пригласили нашу соседку. Она из Южной Кореи, приехала на один семестр в школу рекламы. Большинство японцев и корейцев бегают по Парижу с планшетами — изучают дизайн интерьера, рекламу, швейное дело, в общем, прикладные художественные специальности, а не живопись или скульптуру. По вечерам, после занятий, наша кореянка возвращалась в пустую мастерскую и, наверное, чувствовала себя очень одиноко. По выходным мы заходили к ней, брали на выставки, в кафе. Чанг католичка, судя по ее рассказам, христиане — корейская элита, в то время как плебс исповедует буддийские суеверия. У Чанг прелестные раскосые глаза, словно у котенка. Она всегда улыбается, просто на всякий случай — улыбка компенсирует плохое знание французского. Пригласили и Габриэль, мы вам когда-то о ней рассказывали.
— Смутно припоминаю, кажется, она пишет книги, да? О чем? Напомни, пожалуйста, Шарлотта.
— О любви, дядя.
— А, понятно, она пишет любовные романы, как же я мог забыть.
Ксавье поперхнулся дымом и, перегнувшись через подлокотник шезлонга, пытался откашляться.
— Так что нас было четверо, — продолжила я праздничные мемуары, — число блюд по числу апостолов, место для нежданного гостя… Под белой скатертью сено в память о вифлеемских яслях. За стол сели, когда взошла первая звезда. Такова польская рождественская традиция.
Мы съели двенадцать блюд, послушали музыку, пошутили. Чанг была очень тронута, она впервые проводила праздники на чужбине. Девушка почти благоговейно накладывала себе на тарелку куски карпа, вареники. Из-за стола поднялись после полуночи, Чанг поблагодарила за приглашение, несколько раз поклонилась, но все как-то не решалась уйти. Стояла на пороге, вся красная от смущения. Еще раз поклонилась и наконец, увидав, что Габриэль уже надела пальто, осмелилась шепотом попросить одну травинку сена из-под скатерти — она отвезет ее своей семье в Сеул. Они оправят ее в рамку, под стекло… сено из яслей Иисуса. Габриэль захихикала и спряталась за пудреницей, сделав вид, что поправляет макияж, Ксавье вскочил с кровати, схватил горсть сена и сунул девушке в руку: «Чанг, возьми для всего вашего прихода».
— Ай-ай-ай, разве хорошо смеяться над ближними? — Дядя погрозил Ксавье сигарой. — Не узнаю тебя, ты ведь был когда-то служкой в Нотр-Дам.
— Смеяться? Дядя, да этим сеном я, может, несу в далекую Корею веру — буддистам и прочим язычникам.
Мы остались у дяди Гастона еще на два дня. На прощание он вручил мне длинную норковую шубу тети Катрин.
— Валяется в шкафу, в конце концов моль съест. Возьми, Шарлотта, носи, Катрин бы наверняка тебя полюбила. — Дядя Гастон обнял нас и спустился со ступеньки вагона. Подождал, пока поезд тронется. Шагая вдоль заиндевевших путей, он кричал, чтобы мы не забыли приехать весной, когда будут «одевать» груши.
Душные переходы метро, подземная жизнь обреченных на Париж. На станциях плакаты, воспевающие красоту зубной пасты или страстную любовь к роскошному дивану. Стены испещрены надписями. Надпись оптимистическая: «Сердце бьется 4200 раз в час, разве это не прекрасно?!» Внизу карандашом приписка: «А что же еще ему делать?» Надпись сардоническая: «В Париже 100 000 носителей вируса СПИД. Хочешь проверить, входишь ли ты в их число? Посмотри в зеркало».
Надпись метафизическая — под рекламой научного труда о загадке загробной жизни: «А где доказательства существования жизни до смерти?»
В метро тоже праздник: клошар — увешанный шарами, обвязанный золотой цепью из конфетных фантиков, с нарисованной на лбу звездой, — загораживая узкий переход, собирает пожертвования на рождественскую елку.
О том, что над головой Сена, можно догадаться по вони сероводорода, а о приближении Гар дю Нор говорят желтые лужи на перронах и ручейки на путях. Писающий эрудит начертил мелком на вокзальных плитках: «Писайте всюду с бесстыдством невинных младенцев, как призывал Ланца дель Васто в XIII веке».
* * *Воспользовавшись тем, что мы остались вдвоем, принимаю горячую ванну. Барахтаюсь в пене, добавляю кипятка — можно не беспокоиться, что в бойлере не хватит горячей воды для Томаса или Михала. Ксавье не любит купаться в холодной ванной, так что еще одним претендентом меньше. Вода сапфирового цвета. Я добавляю розового масла: отливающие фиолетовым жирные капли разбиваются о мои колени и бедра, разлетаются тысячами пузырьков и мягко оседают на пушистом холмике. Зубной щеткой я зачесываю волосы на живот.
— Ксавье, иди посмотри, — стучу я ступней в дверь.
— Что такое?
— Остатки!
— Остатки чего?! — Он не двигается с места.
— Иди сюда, узнаешь.
Стул отодвигается и дверь — слегка, чтобы пар из ванной не проник в мастерскую, — приоткрывается.
— Что у тебя тут?
Я перевернулась на живот:
— Иди сюда, дай палец. Вот, видишь, здесь у меня кончик хвоста, животный рудимент эволюции. Здесь, — я села, изогнув бедра, — рыжие водоросли, растительный рудимент эволюции. Если их сфотографировать крупным планом, не отличишь от водорослей в морской пене.
— Я бы предпочел сделать фотку твоего сдвига по фазе, долго ты еще собираешься собой любоваться?
— А что, я некрасивая? — Я щеткой зачесала «водоросли» в стороны.
— Ты водорослая. Помоги мне лучше нарезать картон для карт. — Ксавье исчезает в мастерской.
Вытертый полотенцем пучок водорослей превратился в клочок пушистого меха. Я натянула свитер и босиком вышла из ванной. Ксавье тупым ножом резал картон на прямоугольники.
— Надень хоть трусики, простудишься.
— Не хочется одеваться, я так давно не ходила по дому голой. В мастерской вечно кто-нибудь болтается.
— И все-таки советую тебе одеться, двенадцать градусов.
Я сняла свитер.
— Начальная стадия эксгибиционизма? — поинтересовался Ксавье, раскладывая картон.
Я села на стол.
— Почему, если я голая, то сразу эксгибиционизм? Эксгибиционисты демонстрируют свое тело, а не наготу. Их нагота скрывается гораздо глубже. Хочешь поискать мою? — Я ногой подвинула банку с краской.
— Если хочешь, чтобы я тебе ножом сделал pedicure,[29] ради Бога, но на большее не рассчитывай. Шарлотта, мы занимались любовью час назад, потом ты отправилась в ванную. Я режу картон, так что если не хочешь помочь, то хотя бы не мешай, очень тебя прошу. Мне нужно нарезать бумагу сегодня, чтобы приняться наконец за увеличение деталей. Тут важна каждая мелочь, поэтому я и хочу увеличить, чтобы все видеть, словно под микроскопом. Не мешай.
— Рисунок — гипостаз вещи, ничего больше, он не изображает ее, а гипостазирует, — возражал Михал Томасу. Отстаивая свою точку зрения, он листал записи, рисовал на обложках тетрадей схемы.
— Но ведь если бы он изображал вещь, то все равно был бы гипостазом, — на мгновение задумавшись, ответил Томас.
Ксавье с тщательностью ремесленника перерисовывал карты. В пылу спора Михал задел пузырек с тушью.
— Осторожно, зальешь мне работу. — Ксавье отодвинул баночки. — Вместо того чтобы болтать всякую ерунду о каких-то гипостазах, начали бы лучше копировать таро, дело пошло бы быстрее. Осталось еще четырнадцать карт. Достаточно набросать контур. Это очень просто, вот краски, вот образцы, вот кисточки — к вечеру закончим.
— Я не гожусь для этой мануфактуры. — Михал предусмотрительно перебазировался из-за стола на подиум.
— Когда надо что-то делать руками, я — пустое место, — честно признался Томас. — Быть может, даже немного дальтоник. — Он бросил многозначительный взгляд на цветные баночки.
— Вам просто неохота. — Ксавье развел акварель, размешал кисточкой краску. — Болтать о гипостазе вы можете часами, так нарисуйте кто-нибудь этот свой гипостаз. — Он положил перед Томасом прямоугольную картонку. — Чтобы представить себе, о чем речь.
Томас оглядел картонку с обеих сторон.
— Не стесняйся, — ободряюще сказал Ксавье, — если здесь не уместится, можешь дорисовать на обороте.
Погруженный в книгу Михал не удержался от комментария:
— Так называемый двусторонний гипостаз, один из самых тяжелых случаев.
— Тебе обязательно рисовать в белой рубашке? — поинтересовалась я у Ксавье голосом заботливой супруги, полжизни проведшей у пенного корыта.
— Я ведь подвернул рукава, — он поднял руки, — выше локтя.
Не опуская рук, он разглядывал кисточку, с которой ритмично капала зеленая тушь.
— Чушь собачья — эта ваша болтовня. — Он тщательно вытер кисть, затем сполоснул в воде, — И болтовня, и писанина. Значение имеет лишь прикосновение. Книги нужны затем, чтобы представить себе мир и всякие сценки. Например, настолько четко увидеть спальню, в которой занимается любовью молодая пара, чтобы простыня и струйка пота, стекающая по спине девушки, стали почти реальными. Сколько слов нужно, чтобы на самом деле сунуть ей руку между ног?