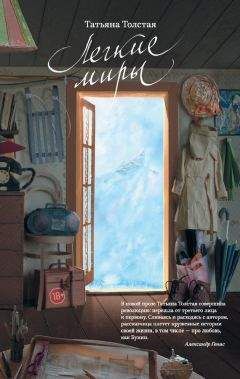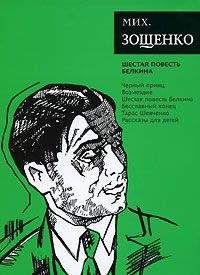Нелли Маратова - Наследницы Белкина
Очнулся я на полу, у входа в светлую, просторную комнату. Открытая дверь продолжалась открытым окном, с чистыми квадратами отраженной сини по бокам. Прислонившись к дверному косяку, я запрокинул голову и заставил себя глубоко дышать. Из-за кристальной чистоты и синевы стекол, из-за нетронутой, непочатой, неслыханно доступной свободы воздух в комнате казался вкусным и целительным, как вода из горного источника.
Вдоволь надышавшись, я встал и, пошатываясь, бездумно побрел в сторону тепла и света. Подойдя к окну, я перешагнул через узкий подоконник и оказался на крыше.
Был зеленовато-оранжевый, яблочный час дня — три или начало четвертого. Солнце приятно грело щеку. Болели глаза.
Крыша обрывалась цветущим садом, беспощадную белизну которого смягчал ленивый вечерний свет. Дом от деревьев отделяла тонкая пленка майской жары, из-за которой они казались подвижными, фантастически гибкими языками пламени. Волны горячего воздуха, катясь вниз по крыше, встречались с волнами цветущего сада, и в этой майской, морской, горячей зыби рождались образы немыслимой красоты, бесконечно притягательные фата-морганы. Верхушки яблонь тяжелыми волнами катились к дому, нахлестывая друг на друга и намывая по шиферной кромке сухие белые лепестки. Ветер взметал их, устраивая неспешные водовороты и свивая белые сухие гнезда.
Гонимый горячим ветром, несся мимо невесомый рой одуванчиковых семян. За спиной у меня скрипел, как пустая телега, флюгер, преодолевая какие-то свои, никому не ведомые воздушные версты. На красной черепице, вдали от пенных волн, лежал огромный белый цветок в обрамлении черных волокнистых листьев. Невесомые лепестки едва заметно шевелились, словно ветер из осторожности приподымал их за уголок.
Все мое существо по-прежнему оставалось ватным и неповоротливым; моторика опережала мысли. Я подошел и лег рядом с белым цветком, закрыв глаза.
Я ничего не помнил, не понимал, едва ли сознавал себя живым существом и соотносил с окружающим миром. Я был абсолютно пуст, абсолютно бесстрастен; я мог бы сейчас вершить справедливый суд. То, что называют реальностью, сводилось к тактильным ощущениям. Ничего на свете меня не касалось.
А потом она коснулась меня. Просто провела пальцем вдоль штанины. Этого было достаточно, чтобы втащить меня в реальность с той стороны воронки. Я повернул голову; открыл глаза, щурясь на солнце.
Первое, что я увидел, была Алиса; первое, что я услышал, были глухие удары мимов по крокетным шарам на лугу. Мысли забегали колючими мурашками, словно что-то тяжелое сняли с моей головы, восстановив крово-и мыслеток.
— Дрозд, — сказала Алиса.
Я удивленно повернул голову: девушка улыбалась.
— Вон там, над яблонями, видите?
И действительно, над белой цветущей куделью парило сотканное из той же пряжи длинноклювое облачко. Еще одно держало на суставчатом пальце строгую крахмальную стрекозу. Вокруг стрекозы вились, подхватываемые ветром, черные точки стрижей и ласточек. Неподалеку кемарил, уютно сложив крохотные пухлые лапки, кролик, одетый в грязный гипюр. Весьма неряшливые кучевые крохи, окружавшие кролика, были его легкомысленные сны, а возможно, что и остатки обильной трапезы.
У меня развязался язык.
— Послеполуденный отдых белого кролика, — пробормотал я.
— Когда свиньи полетят, — почти не размыкая уст, сказала Алиса. — Вот смотрите: один, два, три поросенка. Летят.
Кролик у меня на глазах распался на три пухлых заморыша, которые бойко буравили небо в поисках желудей. Я улыбнулся, закрыл глаза, нежась в волнах горячего воздуха. Мерцающее чувство счастья. Пульсация солнца.
Ветер прошелся юбкой невесты по моей ноге. Я сел, превозмогая сон и лень. Похлопал по коленям, пытаясь струсить пыль, не сильно в этом преуспев. Вспомнил о тесных ботинках, и они тотчас отозвались болью в ногах, по отчаянной пронзительности которой я сделал вывод, что окончательно оправился.
По небу нехотя ползли сахарные облака и таяли на горизонте. Алиса сидела, подперев коленями подбородок, и пыталась поймать пролетающие мимо порывистые лепестки.
На лугу, в темно-зеленых тенях, продолжали игру лиловый и белый мимы. Легонько постукивая по шарам, эти двое словно бы вели задушевную беседу. Внезапный шум за воротами разрушил их мирный тет-а-тет: мимы подхватили шары и поспешно покинули поле.
На смену им, точно по негласному соглашению крокетное поле не должно было пустовать ни минуты, на луг с противоположных сторон вышли парами черные и белые мимы. Плавно покачиваясь, они продолжали сходиться, строгие и торжественные, делая декоративные шажки, кланяясь и грациозно приседая. Это был танец или, скорее, приглашение к танцу со старосветскими, велеречивыми движениями. На обочине поля, под деревьями, болтался бесхозный — без дела и без пары — черный мим.
Ворота с присвистом распахнулись, впустив серебристый «Фольксваген» с вмятиной на боковой дверце. Подозрительно бесшумный, он въехал во двор и остановился на крокетном поле, где мимы невозмутимо играли в метафизические игры. На заднем сиденье, за спиной у дымчатого водителя, чувствовалось странное оживление — некий подпрыгивающий рокот, который, нарастая, все больше напирал на дверцы, пока, наконец, из них, оглушительно крича, не хлынула детвора. Двое, клубнично облизываясь, сосали конфеты на палочках, что-то втолковывая третьей; третья, видимо, обделенная, никого не слушала и уже обиженно распускала губы. Назревал отчаянный, бесконечно горький детский плач. Пупсик позвал их с террасы, и трое цыплят, блестя золотистыми чубчиками, наперегонки бросились к нему.
Спустя минуту из машины вылез мужчина, украшенный таким же золотым, как у детских макушек, валежником волос на голове, и крупная брюнетка в брючном костюме ярко-желтого, на границе лимона с безумием, цвета. Сестра с семейством, безошибочно определил я, вспомнив салатовую хозяйку дома.
Пропустив детвору, на террасе, как в волшебном фонаре, возникла Котик, в новом, не менее узком и салатовом платье. Она величественно взмахнула гигантской рукой, словно пасть разинула, и сошла в траву.
Осовелые от жары гости принялись выгружать из машины свои тяжелые баулы, а Котик руководила, взмахом речи и салатового рукава направляя процесс выгрузки.
— Пора сматываться, — сказала Алиса, решительно вставая.
Мучимые ветром юбки облепили ее субтильную фигурку. Платье билось и хлопало на ветру.
Мне стало грустно. Трепетанию синих стрекоз пришел конец.
Я тоже встал и, чувствуя слабую тошноту, подошел к краю крыши, понадеявшись, что великанша, занятая поклажей, меня не заметит.
Не тут-то было: продолжая жестикулировать, Котик обратила ко мне свое красное дубленое лицо и прокричала:
— Что это вы там делаете? Спускайтесь, есть разговор!
— Встретимся на поляне, — шепнула Алиса и юркнула в уютную синеву комнаты.
На террасу вышла и остановилась зеленая, тонкая, кузнечикоподобная тень.
Пока я топтался на краю крыши, тщетно выдумывая отговорки для Котика, ворота снова распахнулись и впустили желтый «Пежо». За ним, проворно проскочив между створками затворяющихся ворот, во двор въехал желтый, заляпанный разноцветными кляксами фургон. «Пежо» долго и бестолково парковался, сдавал назад, окунаясь в траву, рывком из нее вырывался и, кажется, в один из таких выпадов поцеловал «Фольксваген».
Ужимки с поцелуями вскоре разъяснились: дверца «Пежо» отворилась, и в гравий ввинтился острый лаковый каблук; за ним, более уверенно, — его напарник. Из лаковых каблуков стрелой лука-порея выросла девица с внешностью присмиревшей Жанны Агузаровой, тоже лаковая, начиная челкой с начесом и заканчивая пурпурным маникюром. Порывшись в лаковой черной сумке, в широких складках которой, как в шароварах Ивана Никифоровича, можно было бы поместить весь двор с амбарами и строением, девица достала пудреницу и два блестящих тюбика. Зажав тюбики между пальцами, она принялась за макияж, параллельно ведя мобильные переговоры и в перерывах между репликами и мазками выкрикивая что-то водителю желтого фургона.
Водитель во главе команды из пяти человек — весьма разношерстной, несмотря на одинаковые желтые футболки, — занимался разгрузкой фургона. Четыре субтильные девушки таскали увесистые коробки и свертки, деловито снуя от фургона к дому и обратно. Под занавес они стащили на землю громоздкие, белые, похожие на биде стулья и, подражая далеким египетским предшественникам, с душераздирающим скрипом покатили их в сторону предполагаемой пирамиды. Только тогда, наконец, показался пятый — загорелый, увитый фенечками детина с колючей стерней бородки и пшеничным пучком дредов — и продефилировал на веранду, грациозно неся в мускулистой руке миниатюрную расчесочку. За ним, эффектно поводя бедрами, двинулась лаковая девица, на ходу бросая косметику в бездонную сумку.