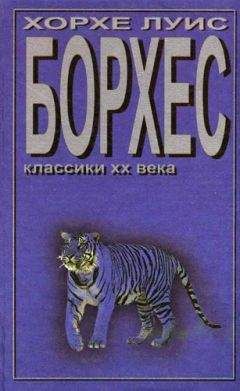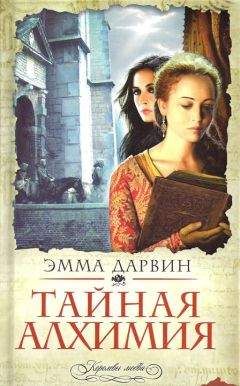Эмма Герштейн - Лишняя любовь
Какой-то пьяный, проходя мимо, сказал мне одобрительно: “Так его, так его”. Но, вглядевшись в безбородое лицо бегущего Левы, его меховую шапку, смахивающую на капор, и хлопающую по коленям дурацкую куртку, воскликнул: “Да это ж не мужчина, а баба какая-то!” Лева отрезал: “А ты холуй!” Тот сразу замолчал, совершенно обескураженный. Я это запомнила, взяла себе на вооружение и испробовала после войны. Когда пьяный дворник грозился меня убить, я обозвала его точно так же, как Лева.
Подействовало безотказно.
Махнув рукой на трамвай, которым он надеялся еще успеть добраться до Коломны, Лева довел меня до дому. Ворота были закрыты. В подъезд нельзя было проникнуть. Дворник в тулупе подозрительно нас оглядывал, допрашивал, куда я иду, а ведь я и там не была прописана. Наконец дворник пропустил меня. Лева ушел, но на мои звонки очень долго никто не откликался. Когда соседи впустили меня в квартиру, я быстро проскользнула в комнату и улеглась на диване, а за портьерой моя хозяйка жеманничала со своим мужем: “Я думала, это Ягодка проклятый”.
Ее муж, товарищ моего детства, в эти дни часто выступал на пушкинских музыкальных вечерах. У него был замечательно хорошо подвешен язык, он обладал абсолютной памятью, легко сыпал именами и цитатами, зная всегда, что именно нужно говорить сегодня. В музыку он был влюблен и хорошо ее знал. Он обладал обаяньем внешне культурного, начитанного человека и, владея иностранными языками, часто принимал заграничных гастролеров.
Рассказывая о беседе в артистической со знаменитым французским дирижером, он мимоходом вспомнил такую сценку. Подошел к ним один из администраторов филармонии. Как только он удалился, дирижер понимающе взглянул на моего приятеля и спросил: “C'est un agent de police?” Подобные отступления от бодрой, заученной повседневной речи советского лектора произносились тихим голосом, будто человек очнулся от наваждения. Мой преуспевающий приятель рассказал о рабочем-стахановце, которого послали с делегацией за границу. Он был поражен материальным благополучием рабочих в капиталистических странах. Вернувшись домой, он запил и кричал в пьяных слезах: “Обманули! Обманули!” И уж совсем тихо мой приятель коснулся особенности нашей сегодняшней работы: “Вот мы все рассказываем на лекциях, как высочайший цензор мешал
Пушкину писать. А у нас что делают с писателями, разве не то же самое?” Но такие мысли наплывали и исчезали, вернее, их старательно гнали от себя.
Моя мать, совершенно не приспособленная к грубости и жестокости советской жизни, все же благословляла ее за отсутствие антисемитизма. Она не могла забыть о нанесенной ей обиде при окончании гимназии в 90-х годах: вместо золотой дали серебряную медаль из-за того, что она еврейка. Держась за свое достоинство советской гражданки, она не замечала нелепостей нашего быта.
Взрослые дети, сгрудившиеся в родительской квартире, пытались вести самостоятельное хозяйство каждый в своем углу. Привычным взглядом мама наблюдала, как мой старший брат, тридцатипятилетний инженер, принимал в своей единственной комнате уважаемого гостя. Спавший тут же ребенок заплакал, жена тщетно его успокаивала, брат выбегал с чайником на коммунальную кухню и, выслушав там ехидное замечание соседки и чувствуя за спиной косые взгляды, возвращался к своему-гостю, стараясь сохранить улыбку на лице. Глядя на эту напряженную и жалкую процедуру, мама неожиданно для себя очнулась. “В старое время, – вздохнула она, – Боря был бы несколько раз за границей, совершенствовался бы в своем деле, дома имел бы свою квартиру, где жил бы, как полагается уважаемому главе семьи”. И уж совсем робко она высказалась после одного выдающегося события в нашей музыкальной жизни. По каким-то политическим соображениям в консерватории два раза прозвучали запрещенные “Колокола”
Рахманинова и “Страсти по Матфею” Баха. Мы слушали “Страсти”.
Уже дома мама как-то робко сказала: “Как теперь звучат эти слова
– “И предаст брат брата на смерть, и отец сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их"”. Особенное впечатление произвела на нее сцена предательства Петра, когда он, осознав свое падение, “вышед вон, плакал горько”.
Отец мой, вообще говоря, вел себя как член ЦК, то есть не позволял себе никогда, даже дома, критиковать советскую власть или толковать о членах правительства, которых ему приходилось лечить. Он только жалел их, замечая, как они одиноки – боялись друг друга. Он одобрял реконструкцию Москвы, радуясь расширению проезжей части – ведь он ездил на машине. Я, как уже говорилось, с ума сходила от бесформенности новых площадей. А. А. Осмеркин, пожимая плечами, говорил насмешливо: “Харьков”. Лева не сравнивал древности обоих городов, но заметил: “Мало ли в России пустырей”. Я предупредила его, что у нас за столом нельзя так говорить. И когда папа спросил его за чаем, как ему понравилась новая Москва, он ответил нейтрально, так, ”как я его научила:
“Просторно”.
Это было очень дурно с моей стороны, потому что я позволила Леве относиться со снисходительным неуважением к моей семье. Он даже заметил, что в нашем доме “чувствуется какая-то пустота”. “У нас хоть черти водятся”, – сравнивал он наш Щипок с их Фонтанкой.
Это было несправедливо и очень ненаблюдательно. В нашем семействе было достаточно своих чертей и своих ангелов-хранителей, обид и слез раскаяния, жестоких ссор и трогательных примирений.
Папе рассказали, что один из думающих еврейских молодых людей, знакомый еще по Двинску (где я родилась), живет теперь в Москве, устроен, но вот пристрастился к вину, просто-таки пьет… и неожиданно папа сказал тем тихим голосом: “Это его хорошо характеризует. Значит, не удовлетворен”.
А когда мой старший брат получил наконец две комнаты в общей квартире служащих Метростроя и невестка Надя рассказывала, как хорошо они ладят с новыми соседями и как те хвалят нашего восьмилетнего Сережу за то, что он уже выносит мусорное ведро и всегда тушит свет в уборной, папа вздохнул: “Ужас, какое мещанство”.
Через десять лет та же Надя была ошеломлена вспышкой антисемитизма в той же квартире, в эпоху так называемой борьбы с космополитизмом. В 30-е годы, несмотря на то, что тридцать седьмой год так жестоко ударил по евреям-коммунистам, в быту антисемитизм формально был еще изгоняем. Один случай заставил меня задуматься обо всем этом.
Придя к Лене, я застала у нее поэта Ваню Приблудного, который недавно вернулся из астраханской высылки. С собой он привел приятеля, сына известного экономиста М. И. Туган-Барановского.
Он жил в буржуазной Латвии. Почему оказался в Советском Союзе, не знаю. Я шутливо спрашивала: “Вы гонимые?” Оба отрицали это и даже обижались. Туган-Барановский рассказывал о своей жизни в
Риге. Он был женат на еврейке. На взморье были разные пляжи – для евреев и христиан. Он шокировал родню своей жены, показываясь на еврейском участке, а она выглядела белой вороной на христианском. Туган рассказывал об этом смеясь, а мне казалось, что я слушаю какие-то сказки о доисторических временах. А ведь я могла не удивляться. Когда в лето 1914 года мы тоже жили на Рижском взморье, в Дуббельне, рядом, в
Мариенгофе, владелец этой территории запрещал селиться там евреям. Однако с началом первой мировой войны черта оседлости в
России была отменена.
Но вернемся в Ленинград, в февраль 1937 года. Я пришла к Леве в гости полюбоваться его холостяцкой комнатой. На стене – портрет
Гумилева, принадлежащий Акселю. Его же противная грязная кровать. Лева спал на полу на медвежьей шкуре, уверял, что каждый день она вытряхивается во дворе. Сомнительно. В ящике комода валялись две заржавевшие вилки и такой же нож. Аксель отсутствовал, я с ним столкнулась в коридоре, уже уходя. Больше никогда в жизни я об этом Акселе ничего не слышала. Кстати, года два спустя, разбирая чей-то архив, я натолкнулась на дореволюционную открытку от Н. Клюева, на которой поэт указал свой петербургский обратный адрес. Это была та же квартира по
Садовой.
Мой приход туда совпал с днем столетия гибели Пушкина. Только в
Москве я узнала, что Анна Андреевна провела его в полном одиночестве. Вечером на Фонтанку пришла В. Н. Аникиева и застала ее одну дома, очень грустную. Ахматовой даже не прислали пригласительного билета на торжественное заседание 10 февраля. Я узнала об этом у Осмеркиных и горько сожалела, что не навестила ее в тот вечер, вместо того чтобы проводить время с Левой в этой гадкой комнате.
От поездки в Ленинград у меня остались смутные, но очень насыщенные воспоминания. Там все было другое, чем в Москве, начиная от низких ступенек трамвайных вагонов и ровной линии рельсов на плоской, как будто вдавленной в землю мостовой.
Высокие и широкие окна с ровными переплетами рам. Большие, холодные квартиры ленинградцев с перегороженными комнатами.
Каменные полы и голландские печи в Архиве, помещавшемся в бывшем здании Сената. Сквозняки в домах и на площадях. Метанье под ленинградским ветром и вьюгой на Исаакиевской площади.