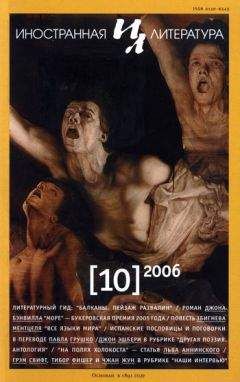Джон Бэнвилл - Затмение
Лидия никогда не разделяла моих сомнений. Это, разумеется, тоже раздражало. Ах, как она бросалась к Касс, едва не задыхаясь от переизбытка вымученного энтузиазма, пытаясь увлечь дочь вновь изобретенной игрой, чтобы заставить забыть о всяческих маниях! Бывало, Касс поддавалась, улыбалась, сияла от восторга, но в итоге снова погружалась в апатию. Тогда они менялись ролями, Лидия превращалась в разочарованного ребенка, а дочь — в неподатливого родителя.
Первые симптомы ее недуга проявились уже в пять или шесть лет. Как-то после представления я вернулся домой поздно и застал ее на лестнице, она стояла в одной ночной рубашке и что-то говорила. До сих пор, как вспомню ее такой, мурашки ползут по коже. Глаза широко открыты, лицо не выражает ровным счетом ничего: настоящая восковая кукла. Она говорила тихим, лишенным интонации голосом оракула. Я смог лишь разобрать что-то о сове и луне. Мне показалось, что она как сомнамбула повторяет стихотворение или слова детской песенки. Взял ее за плечи, развернул и проводил в комнату. Обычно именно такие как она восприимчивы к странным аурам, но запах тогда заметил я. Запах того, чем она страдала, страдает до сих пор, запах болезни, я уверен в этом. Ничего особенного: просто затхлый, тягуче-унылый ненавязчивый дух, словно от грязных волос или забытого в ящике несвежего белья. Я узнал его. Мой покойный дядя, который умер, когда я еще не вышел из детского возраста, так что я едва помню его, играл на аккордеоне, не снимал шляпу даже дома и ходил с костылем. От него исходил такой же запах. Костыль был старомодным: грубая деревяшка с поперечиной наверху, обернутой пропитавшейся потом тканью; место, где рука обхватывала дерево, отполировано частым прикосновением так, что напоминала серый шелк. Я думал тогда, что воняет костыль, но теперь этот запах кажется мне приметой самой болезни. В свете ночника комната Касс выглядела идеально аккуратной, убранной с маниакальной тщательностью, как впрочем, всегда, — в нашей дочери есть что-то от монахини, — и все же мое растревоженное сердце чувствовало, что здесь царит безумный хаос. Я уложил ее в постель, а она все бормотала, глядя на меня пустыми глазами, вцепившись в меня так, словно я не мог ее удержать от падения в бездонный черный омут глубокой ночью под ивой. В дверях за моей спиной сонная Лидия, запустив руку в волосы, желала знать, что тут происходит. Я присел на край узенькой кровати, все еще сжимая холодные руки Касс. Мой взгляд скользил по игрушкам на полках, по абажуру, оклеенному выгоревшими переводными картинками; на обоях прыгали и смеялись герои мультфильмов. Я почувствовал, как мрак вокруг пещерки, созданной светом ночника, густеет и надвигается на нас, словно сказочный людоед. В окно над кроватью заглядывала кривая злорадная луна. Я поднял глаза, и, кажется, она с чудовищным, знающим видом многозначительно подмигнула мне. Голос Касс шелестел как пыль, которая падает на иссохшую землю.
— Они говорят мне всякое, папочка — шептала она. — Говорят, говорят…
Касс никогда не рассказывала, что именно ей нашептывали, что требовали сделать. Это была ее тайна. Наступали периоды временного улучшения, голоса давали нам передышку на целые недели, а то и месяцы. Каким же спокойным казался тогда дом — будто внезапно прекращался бесконечный шум. Но некоторое время спустя, свыкнувшись, я снова слышал в каждой комнате все ту же неумолкавшую тревожную ноту, от пронзительно-тонкого звука которой вдребезги разбивалась как хрупкое стекло любая надежда. Перед лицом неведомой опасности самой спокойной из нас троих оставалась Касс. Иногда она демонстрировала такую полную безмятежность, что, казалось, ее вообще здесь нет, она упорхнула с попутным ветром, легкая как пушинка. Ее окружает иная атмосфера, иная среда обитания. Думаю, для нее мир — всегда чужое, незнакомое место, в котором, однако, она существует. Вот что самое мучительное: представлять, как она стоит там, на каком-то пустынном сером берегу океана потерянных душ, а в голове не умолкая звучит пение сирен. Она всегда была одна, вне всего. Как-то раз я пришел, чтобы забрать Касс из школы и увидел, как она стоит и всматривается в дальний конец длинного зеленого коридора, где собралась стайка до хрипоты накричавшихся девчонок. То ли они затевали какую-то игру, то ли собирались выйти на улицу, и в воздухе звенящим эхом разносились их возбужденный говор и смех. Касс замерла, сосредоточенно нахмурилась, прижав к груди ранец, чуть подавшись вперед и склонив набок голову, как влюбленный в свою науку зоолог, не в силах оторвать взгляд от невероятно редкого насекомого с уникальной окраской, которое сидит на другом берегу слишком глубокой реки и может в любой момент взлететь и бесследно исчезнуть в лесу. Она услышала мои шаги, подняла голову и улыбнулась, моя Миранда. Ее зрачки тут же исполнили свой обычный фокус, разом повернулись, как плоские металлические диски, вновь обратив ко мне свою слепую, ничего не выражающую изнанку. Мы вышли на улицу; она на мгновение остановилась, уткнувшись взглядом в землю. Мартовский ветер, серый, как ее школьное пальто, заставлял плясать столбики пыли у наших ног. Вдали звонил колокол собора, и его постепенно затихающие, вибрирующие раскаты словно колыхали воздух вокруг нас. На уроке истории ей рассказали о Жанне д'Арк и о том, как ей слышались голоса, сказала мне Касс. Она подняла голову, прищурилась, и с улыбкой бросила взгляд в сторону реки.
— Как ты думаешь, меня тоже сожгут на костре? — Это станет ее любимой шуткой.
Удивительно, с какой яростной настойчивостью память удерживает самые незначительные на первый взгляд события. Целые периоды моей жизни исчезли, как рухнувший в море утес, а я судорожно цепляюсь за какие-то мелочи. В эти праздные дни, а особенно когда приходят бессонные ночи, я коротаю время, перебирая фрагменты воспоминаний, словно черный дрозд, который копается в облетевших листьях в поисках одной-единственной важной детали, таящейся в глине, среди полусгнивших деревяшек и жучиных надкрылий, лакомого кусочка, который внесет смысл в бессмысленный поток воспоминаний, жирного червяка, лежащего на виду, но замаскированного наслоениями случайностей. Есть эпизоды с Касс, которые навсегда должны остаться в памяти, словно клеймо, выжженное внутри черепа, пока они тянулись, я не верил, что мне посчастливиться когда-нибудь избавиться от них, — ночные дежурства у телефона, бесконечные бдения рядом с неподвижным, сжавшимся под скомканными простынями телом, пепельно-серые часы ожидания у дверей безымянных консультантов, — но сейчас все это кажется лишь полузабытыми обрывками дурного сна, а вот ее застывший мирок, брошенный вскользь взгляд от двери, бессмысленная поездка на машине вместе с ней, погруженной в молчаливое оцепенение, постоянно возникают перед глазами, настойчиво намекая на свою важность.
Холодный рождественский день. Я привел Касс в парк, чтобы она опробовала роликовые коньки. Деревья одеты белым инеем, надвигаются сумерки, в неподвижном воздухе висит розоватый туман. Настроение у меня неважное; здесь собрались толпы визжащих детей и их раздражающе безучастные отцы. Касс, дрожа, намертво вцепилась в меня и никак не хотела отпускать. Все равно что обучать крошку-инвалида азам ходьбы. В конце концов, она потеряла равновесие. Конек стукнул меня по лодыжке, я от неожиданности выругался и инстинктивно высвободил руку. Касс пошатнулась, попыталась устоять, но потом поскользнулась и села прямо на дорожку. Каким же взглядом окинула она меня тогда!
Еще один эпизод с падением. Это было в апреле, мы вместе отправились в горы. Стояла совсем еще зимняя погода. Прошел мокрый снег, потом неуверенно выглянуло солнце, небо походило на тусклое стекло, на белом снегу яркими желтыми огоньками пылал цветущий дрок, повсюду сочилась, капала, журчала под гладким ковром разросшейся травы талая вода. Я назвал скользкий снег промороженным, а она притворилась, что услышала «мороженое», стала спрашивать, где оно, и, и подбоченившись, изображая буйное веселье, разразилась своим фыркающим смехом. Она всегда была неловкой, а в тот день одела резиновые сапоги и тяжелое пальто, и проходя по каменистой дорожке, вьющейся между высокими сине-черными соснами, споткнулась, упала и разбила губу. Капли крови, словно ягоды, усеяли белый снег. Я подхватил ее, прижал к себе, теплый пухлый переполненный горем комочек, ощутил соленый привкус слез, словно капельки ртути, осевших на моих губах. Я вспоминаю, как мы стояли там, окруженные трепещущими деревьями, чириканьем птиц, доверительным шепотком журчащей воды, и что-то во мне слабеет, оседает все больше и больше, а потом с натугой возвращает себя в прежнее состояние. Что такое счастье, как не усовершенствованная разновидность боли?
* * *Дорога, по которой я возвращался домой после разбудившей столько тревожных мыслей прогулки по берегу, почему-то привела к холмам. Я даже не сознавал, что поднимаюсь, пока не очутился на том самом месте, где остановил машину одной зимней ночью, ночью неведомого зверька. Стояла жара; пронизанным солнцем воздух над полями наполняло негромкое жужжание. Я стоял на уступе холма, а под ногами распростерся ощетинившийся крышами город, окутанный бледно-голубой дымкой. Я видел площадь, свой дом и белоснежные стены монастыря Стелла Марис. У обочины дороги, в кустах боярышника, бесшумно перескакивала с ветки на ветку маленькая коричневая птичка. Море за городом превратилось в призрачную как мираж бескрайнюю гладь, сливавшуюся с небом. Наступил мертвый час летнего дня, когда все замирает, даже птицы не щебечут. В такое время, в таком месте можно потерять себя. Окруженный тишиной, я вдруг различил едва уловимый звук, некое подобие тающей, растворившейся в воздухе трели. Я не мог понять, откуда он взялся, пока не осознал, что это шумит мир, слившиеся воедино голоса всего, что в нем живет и продолжает просто жить, и мое сердце почти успокоилось.