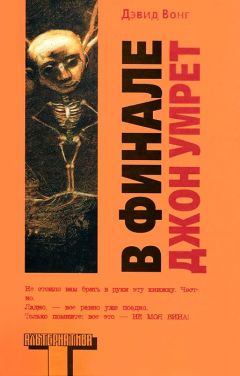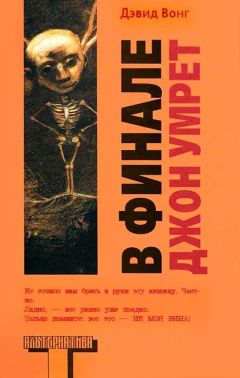Александр Любинский - Виноградники ночи
Марк вежливо улыбнулся.
— А вы лихо расправились с бедным Джони.
Гость одобрительно кивнул головой.
— Зачем вы напустили его на меня?
— Проверка боем, проверка боем… Надо же было узнать, с кем мы имеем дело.
— Он и здесь наследил. Когда-нибудь я его прибью.
— Пожалуйста, не надо! Это уже лишнее. Я сделаю ему внушенье… Мне понравилось, как вы разделались с этим русским. Конечно, вы действуете несколько э… импульсивно, но с годами это проходит.
— Надеюсь дожить до пенсии.
Снова засмеялся. Вдруг подался вперед, посуровел… Он был хороший актер, этот Стилмаунт.
— Давайте о главном… Вы прибыли в Иерусалим, как кажется, для того только, чтобы сунуть нос в русские дела. Как это… в русскую печь, да? Они дерутся друг с другом, как все и повсюду, за деньги и власть. А в последнее время стали просто путаться под ногами! Вас и впрямь интересует, кто убил отца Феодора?
— Да.
— Не верю.
— Это ваше дело.
— Вы приехали не за этим… Хочу вас предупредить… Не делайте глупостей! Это тупик.
Глядя на испачканный в грязи носок ботинка, Марк молчал.
— Я знаю, что вы из «Эцела»[11].
— Похоже, вы знаете больше меня.
— Такова уж должность… Послушайте, я хочу установить связь с вашим руководством. Это всегда может пригодиться… Я не хочу бессмысленных жертв ни с вашей, ни с нашей стороны.
— Вам следует обратиться к «Хагане». Они вас поймут…
— Как бы то ни было, вы должны будете сообщить о нашем разговоре. И не принимайте необдуманных решений!
Марк по-прежнему напряженно всматривался в носок ботинка.
— Возможно, вы захотите со временем установить контакты и с русскими… Но зачем? Они вам не помощники. Во всяком случае, сейчас, поскольку целиком заняты своими делами.
— Англичане приходят и уходят, а русские остаются.
Стилмаунт внимательно разглядывал Марка…
— Да, мы уйдем, — проговорил он тихо, — но мы уйдем, чтобы вернуться… Мы оставим вас на съеденье арабам. И в конце концов вы запросите о помощи. Вы завопите о помощи! Но будет поздно… Они уничтожат ваше созданное на песке государство. И тогда вернемся мы, поскольку лишь мы одни умеем с ними ладить.
— И русские.
— Русские слишком ленивы, чтобы создать мировую державу. Американцы — слишком самоуверены. Но мы забрались чересчур высоко, а нас ждут наши маленькие дела… Нам нужна надежная связь с вашим руководством… Знаете ли, пока внизу дерутся, наверху говорят…
Марк не отвечал.
— А хамское поведение русских уже начинает раздражать… Вскоре они начнут путать и ваши планы. Советская разведка здесь совсем ни к чему. И если вы их э… немножко припугнете, мы не станем возражать…
— Уничтожить?
— Что вы! — Стилмаунт даже привстал с кресла, — просто прозрачно намекнуть, что не все сойдет им с рук. Способов хватает…
— Почему бы этого не сделать вам?
— Ну, все таки… — развел руками, вздохнул, — бывшие союзники… Нам не нужны неприятности на уровне государств.
Встал, одернул пиджак.
— Вы производите приятное впечатление. И надеюсь, доживете до тех времен, когда сможете в полной мере реализовать ваши способности…
Помолчал.
— Мы всегда будем готовы вам в этом помочь.
Повернулся, сделал шаг в направлении двери…
Она взяла меня под руку, и мы двинулись к Яффо. Она шла рядом легко и спокойно, словно мы ходили так вместе уже много лет. Шуршал дождь о купол зонта.
Дойдя до перекрестка, остановились.
— Посидим в кафе? — сказал я.
— Но здесь нет кафе.
— Я знаю одно. Возле автостанции.
— Хорошо. Пойдем.
Мы свернули направо, прошли мимо ярко освещенных дверей станции, где в этот час охранников было больше чем пассажиров, и вошли в кафе, расположившееся в глубине дома рядом со станцией. Я бывал здесь пару раз, и уже знал верткого хозяина в кипе, обрадованно вскинувшего голову при нашем появлении. Кафе было пусто, мы сели за столик у дальней стены и, сняв мокрые плащи, развесили их на спинках соседних стульев. Подошел хозяин. Мы заказали кофе и несколько печений. Как оказалось, у нас были разные вкусы — она пила крепчайший двойной эспрессо, я же пробавлялся кофе с молоком.
Достала сигареты, закурила, осторожно выпустила в сторону колечко дыма.
— Не знаю, можно ли здесь курить… Но сейчас ведь никого нет.
— Кроме нас.
Хрипловатый грудной смех.
— Тонкое замечанье.
Хозяин принес кофе. В молчании мы пригубили его.
— Совсем неплохо!
— Давайте, наконец, познакомимся! Вы…
— Влада, — проговорила она своим низким голосом и протянула мне через стол маленькую ладонь. Осторожно я сжал ее в своей.
— А я — Женя. Так вам нравится Кавафис?
— Слышала краем уха… Показалось интересным.
— Ожидания сбылись?
— Даже на знаю… Лектор такой зануда!
— Но он пишет хорошие стихи.
Посерьезнела, отпила из чашки, снова затянулась… Поплыл над нашими головами сизый дымок.
— Я читала его книжку. Тяжеловесно и учено. И все какие-то греки.
— О, да!
Быстро дотронулась пальцами до моей руки.
— Я вас чем-то огорчила?
— Нет… Просто жаль, что так все закончилось.
— Что — все?
— Очередная детская игра… в слова. Но бывают слова, ставшие стихотворением… А оно уже обладает каким-то магическим действием! Правда, случается такое очень редко.
— К сожалению, вы правы. И что же?
— Одно из таких стихотворений написал Кавафис, и отныне оно отбрасывает свет на всю его жизнь, переиначивая, возвышая ее… И вот, приезжают мальчики на это побережье, вдыхают соленоватый горький воздух, читают Кавафиса…
— И начинают ему подражать?
— Не то, чтобы подражать… Им кажется, что он вручил им некую путеводную нить, придал смысл их пребыванию здесь. И они воображают себя александрийцами, и Средиземноморье становится их домом, и начинают они писать по-русски и как бы уже не по-русски стихи и велеречивую византийскую прозу, тяжеловесные как свитки александрийской библиотеки. А потом один из них умирает.
— Вы имеете в виду…
— Да-да, именно.
Сизый дымок сложился в колечко, истончился, исчез.
— Вы были знакомы?
— Встречались иногда. Я его поругивал в местной прессе. Мне претили его снобизм и всезнайство. Наверно, я был неправ. У него в доме на стене висело то самое стихотворение Кавафиса.
— Покидает бог Антония?
— Да. Он жил одной идеей. И сгорел… Вдруг оглядываешься и видишь вокруг пустоту. И чувствуешь, как постарел. И пустым кажется все, чем жил раньше. И начинаешь понимать, что писал-то, оказывается, вот для этого человека, ради него… А теперь его нет.
— А с этим, вторым, вы знакомы?
— Шапочно. С тем они, вроде, дружили. Если есть такое явленье, как дружба литераторов. Понимаете, совсем необязательно дружить или встречаться, чтобы делать общее дело. Мы даже на расстоянии чувствовали друг друга. А общались с помощью статей, в которых скрытый обычной журналистской шелухой, шел разговор, явный лишь нам…
— Тайное общество!
— Ага… И я в роли Балтазара[12].
— А кто такой Балтазар?
— Да, так… Это уже никому не интересно.
— И вы… продолжаете писать статьи?
— Нет. Я ушел из газеты.
Допила кофе; резкий стук чашки о стол.
— Я читала ваши материалы.
— И что же?
— Хорошо!
— Я вижу, вы всерьез интересуетесь литературой.
— Я пишу стихи.
— А…
Снова этот прокуренный хриплый смех.
— Забавно, правда? Женщина, пишущая стихи?
— Это не забавно. Это грустно.
Задумчиво качнула головой.
— Но ведь бывают исключения…
— Очень редко.
Посмотрела на часы, поднялась.
— Мне пора.
Я помог ей надеть плащ, потянулся за своим…
— Не надо провожать. Обойдемся без формальностей.
Помедлила.
— Если вам захочется позвонить, буду рада. У меня легкий телефон.
И она назвала номер, который и впрямь звучал едва ли не в рифму.
— Всего хорошего. Спасибо за приятный вечер.
— Это вам спасибо!
Быстро прошла между столиками, исчезла в сырой зыбкой тьме.
…и в этот момент дверь распахнулась. На пороге стояла Герда. В молчании она переводил взгляд с Марка на Стилмаунта, со Стилмаунта на Марка… Хотела было что-то сказать, но англичанин опередил ее, сделал шаг, взял руку Герды и — поцеловал ее.
— Вы живете в соседнем доме? Ведь так? — сказал он с уверенностью человека, не сомневающегося в том, что все окружающие должны знать его родной язык.
Герда не отвечала. Она смотрела на Марка.
— Она живет там. Надеюсь, у нее не будет из-за этого неприятностей?
Лицо Стилмаунта вдруг изменилось. Могу ли я сказать, — вернее, смею ли, — что свет вспыхнул в его глазах, и свет этот преобразил его лицо? Может быть я поспешил, заявив, что лицо Стилмаунта было гладким, едва ли не бесцветным?..