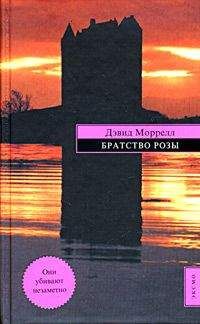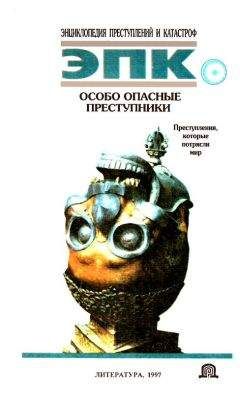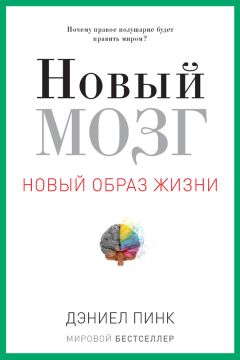Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 7 2005)
Всю ночь промаявшись с призраками, я назавтра уехал из Киева.
Навсегда.
Потом уехала и Женя со своим семейством. И я понимал, что это тоже навсегда. Теперь нам предстояло свидеться разве что где-нибудь в райских кущах, в долине блаженных.
Было больно, но выносимо. Как привычная хроническая болезнь. Которая иногда даже на время отступает, но никогда не уходит совсем. Невыносимо становилось лишь тогда, когда мне случалось вдохнуть запах влажной горячей земли, наткнуться на каменную резьбу либо заметить где-нибудь на пляже нежный зеленый купальник. От зрелища же лунной перевернутой лодки милосердная судьба меня оберегала. Да я и отвык шататься по ночам.
Событиями, впрочем, она меня не обходила — хватало и радостей, и ужасов, — не хватало только поэзии. Которой никогда не бывает в событиях, которая живет только в рассказах.
А жизнь тем временем шла своим чередом, и до меня наконец во всей чудовищной ясности дошло, что, устроив из своей жизни захватывающее приключение беспечного гордого странника, я отнял у себя единственное, ради чего стоит жить, — шанс на бессмертие. Да, не только существованьице муравья-обывателя, но и жизнь беспечного бродяги оказалась растраченной впустую. Для бессмертия ничего не сделали ни он, ни я. А бессмертие — единственное, ради чего стоит жить.
Но — уже вовсю гремела перестройка, и о подобных вещах вполне можно было говорить вслух. Если, конечно, кто-то захочет слушать на фоне боев с привилегиями и разоблачений уже тысячи раз разоблаченного режима. Разоблаченного, разумеется, лишь для тех, кто хотел знать правду, а не беречь комфортабельную грезу.
Однако тем, у кого еще осталась совесть, уберечь свою слепоту не удалось. Все помнят, какие стоны неслись от Балтики до Охотского моря — “мы потерпели поражение”, “мы жили напрасно”, “нам незачем жить”…
И я начал проповедовать.
Я проповедовал, что мир живет не корыстью, а бессмертными грезами, и если в какое-то историческое мгновение какую-то прекрасную сказку присвоили упростители и убийцы, это все равно ничего не меняет ни в ее, ни в нашей судьбе, ибо у всех у нас в запасе вечность. Меня слушали мало — одним гораздо сильнее хотелось отплатить старой сказке, чем сотворить новую, другие оберегали наижалчайший из вымыслов, уверявших мир, что он наконец-то покончил с вымыслами и что человеку довольно его практических нужд: сам хер Фройд тому порукой, что человек злобное и похотливое животное, а потому все должно служить человеку, и я все облаивал и облаивал эту уходящую выше небес глухую стену респектабельного скотства.
Но — меня все-таки слушали, — я даже немножко прославился. Случалось, меня приглашали аж в само министерство правоты — на телевидение, и мне даже иной раз удавалось по кусочкам, по кусочкам кое-что высказать на ту мою излюбленную тему, что человеку жизненно необходимо ощущать себя причастным чему-то прекрасному и бессмертному. Необходимо не только избранным аристократам духа, но и людям самым обыкновенным, хотя они этого почти и не замечают: так человек голод чувствует очень остро, а нехватку витаминов совсем не ощущает — только шатаются и выпадают зубы, расползаются язвы, мучит понос, одышка, барахлит сердце, изводит непонятное беспокойство, липнет любая зараза… А всего вроде бы вволю — шкафы трещат, столы ломятся…
Вот так и многовековое истребление высших мнимостей, бессмертных фантомов породило всеобщий духовный авитаминоз, бессознательно спасаясь от которого люди принялись грызть штукатурку, жевать траву, долбиться, колоться, отдаваться на милость сектантских пророков, выкрутасничать с какими-нибудь восточными ахинействами — словом, уничтожив свои грезы, они пытаются примазаться к чужим. По-прежнему не давая подняться собственным. Если культура есть система коллективных иллюзий, то антикультура — вовсе не дикость, но прагматизм. Если способность человека жить выдумками вознесла его неизмеримо выше животного мира, то отказ от этого дара низводит его гораздо ниже. Нет, не в том даже смысле, что человек сделается хуже всякого животного, — нет, он просто не выживет, он не сумеет прокормиться, обогреться, не сможет завязать шнурки и почистить зубы, он погибнет от скуки и тоски среди всевозможных яств и всяческих зрелищ.
В конце концов я и сам обзавелся чем-то вроде секты. Меня начали приглашать в Новгород, Тверь, Орел, Курск, Тамбов, Пензу, Екатеринбург, Красноярск, почтительно встречали на гулком вокзале или в гудящем аэропорту и везли сквозь советскую унылость в какой-нибудь красный уголок, а то и в Дом культуры, где собирались молодые и старые, нищие и процветающие, красивые и безобразные люди, томящиеся эстетической цингой. И я всегда начинал с того, как я им завидую — завидую, в каком удивительном месте они живут: здесь созидалась мировая история, здесь творились великие дела, здесь жили потрясающие личности… Я, конечно, что-то заранее начитывал, но главное рождалось во мне как ответ на их неосознанную мечту ощутить себя участниками грандиозной сверхшекспировской трагедии.
Теперь я наконец понял, кто наследует землю, — женщины. Это они ни за какие земные лакомства не откажутся от своего дара служить грезам. В их эволюционном древе, правда, тоже имеется своя тупиковая ветвь — феминизм, пытающийся переключить их на борьбу за материальные блага, но превратить в прагматиков, то есть расчеловечить женщин, будет гораздо потруднее, чем мужчин: они гораздо самоотверженнее хранят в себе восторженных, доверчивых девчонок.
Многие женщины добивались личной аудиенции — молодые и старые, седые и крашеные, нищие и процветающие, красивые и… Нет, мовешек для меня не существовало: каждой женщине я давал понять, что она прекрасна, — пускай одинока, покинута, обойдена, но — прекрасна. А единственное, чего ей не хватает, — своего Шекспира. И я становился этим Шекспиром. Я не притворялся, я так чувствовал, и они тоже понимали, что я лишь с величайшим усилием удерживаюсь от того, чтобы не пасть пред ними на колени и не приложиться благоговейно губами к краешку их одежд. Зато я без устали витаминизировал их красивыми словами, красивыми словами, красивыми словами… Бессмертными образцами, бессмертными образцами, бессмертными образцами.
Что скрывать, временами мне становилось совестно, что я их дурачу, но ведь не одурачив невозможно сделать человека возвышенным. А во всяком ином воплощении он нежизнеспособен.
Случалось, в зале отыскивался какой-нибудь умник, сам метящий в пророки, а потому старавшийся меня срезать, — но я всегда покорно склонял голову, покаянно признавая его правоту, — и какая буря гнева поднималась в мою защиту! Будь я окончательным шарлатаном, я бы даже специально подсаживал в паству святотатцев, благодаря которым любовь к оскорбленному кумиру взмывала бы вообще в заоблачные выси.
А потом появились люди дела с предложением организовать фирму “Всеобщий утешитель”, включавшую в себя сеть психотерапевтических центров в одиннадцати регионах; центры со временем должны были обзавестись кабинетами релаксации, реабилитации, массажа, физиотерапии и прочая, и прочая, и прочая; от меня требовалось одно — дать свое имя, свою грезу, что сегодня именуют словом “бренд”. Авантюра отдавала семьюдесятью семью тысячами одних только курьеров, но люди дела как дважды два доказали мне, что, привлекая исключительно лицензированных психологов и менеджеров, мы в результате сумеем помочь неизмеримо большему количеству пациентов, то есть страдальцев. Увы, последней соломинкой все-таки оказалось мое мелкое желание наконец-то обрести какое-то стабильное занятие...
Условие я поставил единственное: наш принцип — опора на высокое. Да, конечно, сейчас время пигмеев, а потому в продвинутой психологии считаются достойными научного изучения лишь те человеческие качества, которые сближают нас с животными, а еще надежнее — и вовсе с неодушевленными предметами. Но “Всеобщий утешитель” будет опираться на то, что возвысило человека над животным миром и превратило его в царя природы, на его влечение к прекрасному и грандиозному. Грубо говоря, если человек уйдет от нас довольным пигмеем, это будет наш провал, — пусть лучше уйдет несчастным, но возвышенным.
Люди дела знали цену красивым словам, а потому не возражали. И дело таки завертелось.
И в конце концов даже я, стреляный воробей, прекрасно знающий, что почем, давно убедившийся, что все материальные интересы лишь маски каких-то грез, тем не менее не сразу понял, чем я их всех так достал. То, что я ограничил свой доход зарплатой водителя автобуса, вовсе не было демонстративным жестом, каким-то укором: именно зарплата шофера с первых шагов моей самостоятельной жизни была моим неизменным ориентиром в борьбе за чувство социальной полноценности. Противясь введению в массажные кабинеты аппетитных девушек в одних только трусиках и настаивая на том, что героин все-таки слишком радикальное средство релаксации, я тоже отнюдь не стремился показать, что я хороший, а они плохие. Просто я не желал уходить от моей задачи: я хотел продемонстрировать, что высокое — гораздо более надежная опора, чем низкое.