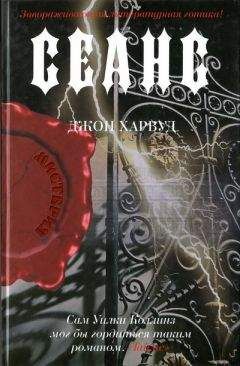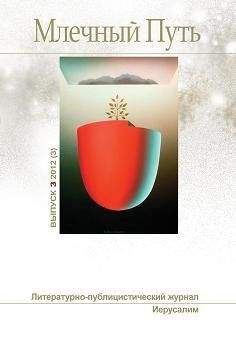Вержилио Феррейра - Явление. И вот уже тень…
Держась домов, иду вниз по улице, где меня обгоняют только стремительно едущие машины. С поднятым воротником без шляпы (меня всегда подкупал залихватский вид без головного убора), я, держа руки в карманах, прижимаю к себе свою жалкую преподавательскую папку и, как всегда, прихожу на урок, испытывая какую-то сухость в горле. Позвонив в дверь, жду. Потом замок щелкает, и на пороге меня встречает служанка, вся в белоснежном крахмальном плиссе. Сняв плащ и отдав ей, я замечаю у дверей в залу, что слева, одетую в черное Софию. Она не пошевельнулась. Продолжала стоять, прислонившись к створке полуприкрытой двери, ребро которой делило ее сверху донизу по линии глаз, грудей, ног на две равные половины. Служанка исчезла, и под монастырским куполом вестибюля мы остались наедине с доносившимся с улицы фантастическим шумом дождя. Я сделал шаг вперед; София, не двигаясь с места, небрежно, словно для поцелуя, протянула мне левую руку.
— София!
— Ола, доктор!
Только тут она отошла от двери и принялась снимать книги с полки. Потом, высоко держа их на кончиках пальцев, как официант поднос, подошла ко мне. Черное бархатное совершенно глухое облегающее платье оттеняло ее молодое лицо, теплую нежность затылка под поднятыми вверх волосами и слабость белых тонких рук. Но больше всего, пожалуй, выигрывал ее поразительный взгляд, взгляд бесхитростной силы, сдержанный, влажный и сверкающий — как первый грех. Мы сидели на углу стола. София держала руки на открытой книге. Не удержавшись, я взял их в свои. Стал перебирать пальцы, всматриваться в их кремоватую белизну и синие жилки вен. Длинные тонкие пальцы у самых ногтей выгибались, напоминая арфу. Но, недвижимые, предоставленные в мое распоряжение, казались мне мертвыми. Тогда я перевернул ее руку, с тыльной стороны пальцы были менее таинственными, но и еще менее живыми. Возможно, потому, что были холодные. Я хотел было согреть их, но вдруг что-то во мне дрогнуло, и я отказался от своего намерения. В страхе я поднял глаза на Софию. Она бесстрастно смотрела на меня.
— У меня всегда холодные руки, даже летом.
Поскольку я больше не изучал ее руки, она высвободила их, взяла шкатулку, вынула из нее длинный мундштук и закурила.
— Что вы скажете о моем кабинете?
Это была маленькая зала с высоким сводчатым потолком, двумя креслами, одним столом, этажерками и картинами. Большое окно выходило в пустынный двор, где никак не унимался дождь. София задернула занавеску и зажгла свет. И мы, отдаленные от города шумом нескончаемого дождя, оказались уединенными в этом интимном монастыре, где тайна Софии открывалась или становилась доступной.
— Здесь очень хорошо, — сказал я.
Сдержанное тепло электрического камина, безраздельная, охраняемая дождем тишина и наше защищенное уединение узаконивали мое возбуждение, разжигали уже занявшийся во мне алчный разрушительный огонь. Однако существовал мир условностей, и мы должны были общаться на его нейтральной почве.
И я спросил:
— Урок приготовили?
— Даже не открывала книгу, — сказала она, улыбаясь сквозь сигаретный дым. — Вы довольны?
— Доволен? Почему?
— Послушайте, доктор, если что-нибудь когда-нибудь меня и заботило, так только одно — желание быть последовательной и согласовывать свои чувства с действиями. А вот вы, почему вы к этому не стремитесь?
— Почему же не стремлюсь?
— Хм… Не стремитесь. Если бы стремились, то… давно бы поцеловали меня.
В водоворот я попал не сразу. Какое-то мгновение я чувствовал себя оглушенным. Потом мной овладело безумие: оно бушевало у меня в крови, в нервах, в костях. Смущенная моим молчанием, София сидела напротив и, как натянутая струна, явно ждала моего зова. Я встал, дрожа всем телом, привлек ее к себе, сжал в объятьях, пытаясь передать ей свой жар, довести до предела, в котором сейчас сосредоточилась для меня вся вечная и бесконечная жизнь. Но вспыхнувшая в ее глазах искра была недвусмысленна и тут же заставила меня опомниться и отступить. Я почувствовал себя жалким; будто все вокруг увидели меня голым, — ведь все, что было тайным, сокровенным, оказалось выставленным напоказ и не нашедшим ответа. Я сложил свои бумаги, собираясь уйти. Тогда София, явно расплачиваясь проявлением собственной слабости за мое унижение, подошла ко мне. Она была совсем иная, покорная.
— Мне здесь нечего делать, — сказал я.
— Не уходите, не уходите.
— Вы еще недостаточно повеселились?
Тут она схватила в свои руки мое лицо и поцеловала в губы. Но это не принесло мне облегчения. Я был уверен: подступись я к ней снова, я снова получу отпор. Я сел и молча закурил. Во дворе, изливая извечную тоску, с прежней силой барабанил дождь. София тоже закурила, и прокуренная комната вдруг напомнила нам атмосферу злачных мест.
— Вы еще что-то хотите сказать? — спросил я.
— А вы не догадываетесь, нет, не догадываетесь… Шико рассказал в доме у Аны то, что слышал от вас. Но мне это известно, да, известно. Вы ничего нового не сказали. Впрочем, Шико не умеет пересказывать. Но, возможно, именно потому, что все это мне было известно, он сумел пересказать.
Она замолчала, стряхивая пепел с сигареты. В этот момент открылась дверь в передней, и кто-то, вытирая ноги о ковер и обмениваясь с кем-то еле слышными словами, вошел в дом.
— Не беспокойтесь. Сюда никто не войдет. Я никого не велела пускать.
— А я не беспокоюсь, я слушаю вас.
Постепенно я примирился с ней и опять любовался ее затянутой в траур фигурой, ее тонкими, изящными в движении руками, бесцеремонным и наивным взглядом. София говорила. Говорила, что как-то бессонной ночью в минуту озарения она тоже открыла головокружительный вихрь жизни своего собственного «я», безвозмездности этого удивительного чуда и загадки будущего. «Я все это знала». А может, знала, но не до конца, а вот теперь, после моих слов, вызвавших перебои ее сердца, все это бурной волной выброшено на поверхность. Так чем она богата для жизни, для ответа на ее вызов пустоте, небытию, кроме немедленного желания прожить ее, подчиняясь ее зову? Покорить желания других и возвысить свои. Сжечь в сиюминутной реальности остатки вчерашнего дня. Раскрыться навстречу завтрашнему. Настоящая жизнь не в слепом повиновении чужим законам, законам, которые настойчиво требуют, чтобы все индивидуальности варились в одном котле. Смысл жизни — верный ответ на ее верный вызов может быть найден и осуществлен только в полном согласии с самим собой, с той силой, которая внутри нас, которая и есть мы и которая должна исчерпать себя до последней капли. И если то замкнутое в себе «я», с которым мы встречаемся в минуты полного одиночества, никому не дано познать, то кто же может судить о нем? И что толку в вашем открытии этого «я», если оно приговорено к пожизненному одиночному заключению? Однако знать его — значит утверждать! Признавать — оправдывать! Не признающий это не признает факт своего существования. А пренебрегающий и замалчивающий — всего лишь животное. Но тот, кому даровано открытие самого себя, как же он может обрекать себя на тюремное молчание? Никто и ничто не может оспорить доступность для всех этого чуда — быть. Так давайте хоть мы предоставим возможность сокрытому в нас «я» быть тем, что оно есть. Давайте об этом самом до хрипоты кричать звездам, раздуем тлеющий в нас огонь и будем гореть, пока не сгорим. Ответим с полной свободой на зов того непостижимого, что в нас обитает. Мы ведь собаки, мыши, насекомые, наделенные разумом. Пусть же этот самый разум покончит с нашим положением насекомых!
Наконец она умолкла. В ее сверкающих глазах, бледном лице, жадных кровавых губах была какая-то демоническая красота, красота ребенка, играющего смертоносным оружием. И тут, подобно душераздирающему крику, подобно ярости, вскипающей после долгого плача, поднялся во мне призыв к трагическому и кощунственному союзу. Я заключил Софию в объятья почти спокойно, и мы, как приговоренные к смерти влюбленные, утратили и себя, и окружающий нас мир.
Когда же мы снова услышали шум дождя и, обменявшись взглядом, узнали друг друга, в глазах наших была только горечь и печаль. И все же после долгого молчания София мне улыбнулась. Кому же, как не ей, принадлежало право ободрить нас обоих.
— А урок? У нас сегодня не будет урока?
Мы читали четвертую песнь «Энеиды». София открыла книгу.
Anna soror, quae me suspensam insomnia terrent!
Quis novus bic nostris successit sedibus hospes!
И перевела серьезно, просто убив меня серьезностью:
Моя любимая Анна, какие призраки нас пожирают!
Какой же убийца тот, кто вошел в наш дом!
Тут она помолчала и, улыбнувшись еще раз, тихо, почти преданно поцеловала мои глаза.
— Мой дорогой убийца…
— Но ведь hospes не значит…
— Мой милый убийца…
VIIIКогда я вышел на улицу, дождя уже не было, но начинало смеркаться. В волнении я пошел куда глаза глядят. Руки мои еще ощущали волну горячей крови, а по всему телу разливался поток первозданной плазмы, в котором усталость, тревога и неосознанная умиротворенность возвещали о полном забвении и полном выздоровлении. Все еще ныли зубы, ногти, суставы. Тысячелетняя ярость подвигла меня на исступление, словно на отчаянный поступок. И теперь утихающая дрожь ничего не имела общего с гармонией мироздания, а скорее походила на сиротливый плач осужденного. И я, надеясь уйти от самого себя, быстро шел по улицам города. На отсыревших белых стенах, в залитых дождем садах и внутренних двориках, которые я смутно видел в приоткрытые двери и сквозь зарешеченные окна, в шедших мне навстречу вялых людях, в клубящемся мглистом небе, в липком, уже холодном поту моего тела я чувствовал усталость, расслабляющую, смежающую глаза и наводящую на тоскливые размышления о наших отданных во власть ветру пустынных дорогах. Я выхожу на кольцевое шоссе, иду вдоль крепостной стены, обнажившей в яростном порыве к небу свои зубцы. В их ярости что-то есть общее с моей, еще смутной… Может, все, о чем я мечтаю, напрасно. Уж не ты ли, старый Фауст, — гений моих дней? И это сейчас, в юности, когда все впереди… Я молод, и я знаю. «А разве жизнь не знает об этом?» — спрашиваю я себя, когда иду под большими арками акведука — коронующими меня руинами. Ноги вязнут в грязи, по грунтовой дороге с грохотом едут машины, в лужах играют дети. С холма, куда я наконец добираюсь, я какое-то время смотрю назад, на опустошенную равнину. Политые дождем земли дымятся. Пелена тумана застилает горизонт, настораживает мир перед угрозой ночи. И только где-то около Эвора-Монте, точно факел, высоко поднятый над умершими полями, светит солнце, пробившееся сквозь рваные облака. Я облокачиваюсь на идущую вдоль площади решетку и, покуривая, погружаюсь в раздумье. Как только в домах загораются огни, приходит вечер.