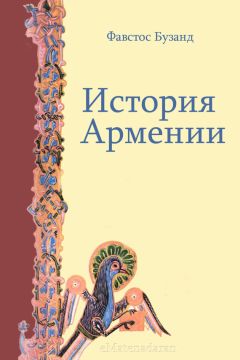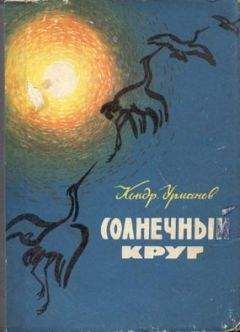Юрий Карабчиевский - Тоска по Армении
— А пишешь… ты… на какой? — спрашиваю я, приходя в себя.
— Нет-нет-нет! — мотает он головой. — Только рукой, иначе не могу. Другой ритм, другая проза. Рука должна сама…
И вдруг осекается и опускает голову.
— Ладно, что обо мне. Не стоит. Со мной все ясно.
Я смотрю с удивлением. Чего это он?
Мощный лоб, туго обтянутый кожей, развитые брови, лицо крупное, сужающееся к подбородку, твердая линия худых скул. По китайской системе «чтения лиц» — натура художественная, эмоциональная, с большой творческой энергией, но и с обостренным чувством трагического. На процветающего литератора он не похож. Ну и прекрасно. Но какая тяжесть у него на душе?
Неожиданно он вновь оживляется.
— Расскажи-ка лучше о нашем друге. Как он там? Часто его видишь? Здоров? Работает? Как настроение?
Грант берет в руки книгу, из тех, что я передал, листает.
— Вот это он написал блестяще. И это тоже прекрасная повесть. А эту (опять не меняя интонации) я не люблю, она формальна. Да! И последняя вещь замечательна. Я завидую ему, он счастливый человек. Он думает, просто думает — и это уже литература.
— Да, это точно. Но и ты тоже, — говорю я ему, с удовольствием, но и не без нажима приучая себя к этому ты. — Тут все дело в различном мышлении. Ты тоже просто думаешь — и это литература. Но мышление твое иного плана, иного характера, оно более предметно и материально. У тебя не мысль выражается в слове, а предмет: человек, животное, дерево, дом. Но поскольку они у тебя не пусты, а содержат душу, то и умершие в своей материальности, перешедшие в слово, выраженные в нем, они эту душу в нем сохраняют. Душа их бессмертна. Чего больше желать творцу?
— Не знаю, — говорит он. — Может быть, так… Все равно, положение мое безнадежно.
Опять! Этого я никак не понимаю. Мне импонирует его пессимизм, я не чувствую его основы. Ведь не может быть, чтобы он рассуждал и об этом в близких мне категориях. Такой мысли я и допустить не могу. Но оказывается, что именно так.
— Мое положение безнадежно, — повторяет Грант. — Последний одинокий писатель у крохотного, вымирающего народа, с вымирающей, уже мертвой культурой. Писатель без читателя. Я знаю почти всех своих читателей — лично, заочно или понаслышке. Мои читатели — это мои знакомые. Как ты думаешь, может писатель писать для своих знакомых?
Ужас. И полная для меня неожиданность — такое совпадение мыслей. Но одно дело — мои отвлеченные рассуждения, и совсем другое — его живая судьба. Так вот какую тяжесть — всю, без иллюзий и скидок — он несет в своей душе постоянно!
Что-то надо сказать, не просто посочувствовать, а как-то основательно возразить. И я хватаюсь за мысли Сергея о его, Гранта, месте в армянской прозе, о его значении для будущей литературы — и излагаю их, как могу. Он заметно светлеет.
— Кто его знает. Кто может предвидеть будущее? Все в руках Божьих. Надо работать, надо много работать, иного выхода у нас нет…
— Кстати, — говорю я, — насчет читателей. Уж в России — то у тебя их достаточно. И вполне незнакомых.
Я рассказываю ему о звонке из Киева. Он не скрывает своего удовольствия,
— И что, — смеется, — ты действительно сразу понял, о ком идет речь?
— Ни минуты не сомневался. Как я мог сомневаться, когда…
И тут я разворачиваю уже свой собственный большой дифирамб, несколько выходящий за рамки вкуса и меры, но уместный, я в этом убежден и сейчас, вполне уместный в разговоре с художникам, с человеком, написавшим книгу. За эту реализованную невозможность и за трату, превышающую все запасы, — велика ли за это любая плата? Любая мала, никакой не надо, но грех не поддержать, не сказать похвалы, если есть хоть малейшее к тому основание. Грех утаить, не вернуть хоть частицу тепла и света. И тут, как, впрочем, и всегда в жизни, лучше передать, чем недодать.
— К чему я все это? — говорю я Гранту. — К тому, что есть у тебя читатель в России, и значит, напрашивается вопрос: как ты относишься к переводам?
Матевосяна переводит Анаит Баяндур, переводит, по-моему, очень достойно. Хороший русский язык, подвижная, гибкая проза, с некоторой естественной стилизацией, но без злоупотребления инверсиями и акцентами.
— О-о, плохо! — восклицает Грант и закрывает лицо ладонями и не сразу отнимает их от лица. — Плохо, Юра, — повторяет он, — плохо! Я не знаю, мне трудно судить, может быть, иначе нельзя, быть может, то, что делает Анаит, — это как раз предел. Но ее книги — это ее книги, и если они нравятся русскому читателю, то я желаю ей всяких благ, но моя заслуга тут минимальна. Анаит — умница и талант. Но я пишу тяжело, у меня тяжелый, трудный язык, а она — скачет и резвится. Нет, это не я…
Такая опять неожиданность. И опять мне безумно приятен его максимализм. Все правильно, не может настоящий писатель чувствовать себя автором иноязычного текста. Конечно, это не он. И все же я вынужден сделать скидку, как-то снизить, перечислить его слова, воспринять их, скажем, метафорически. Потому что иначе выходит что же? Выходит, что я его не читал? У меня же есть чувство, и я ему доверяю, что я все-таки читал Гранта Матевосяна. Что при всей невозможности перевода, еще более на взгляд очевидной, чем невозможность первичного творчества, нечто главное, вложенное Грантом Матевосяном в его непонятную армянскую книгу, перешло ко мне из книги Анаит Баяндур. И быть может, лучшее подтверждение моей правоты — это то, что сидящий передо мной человек во всех основных чертах совпадает с тем образом автора, который возник у меня при чтении. Я понимаю, что просто мне повезло, что это не такой уж частый случай, но он важен мне не только сам по себе, а еще того больше — как явление, которое если и не устанавливает закономерности, то хотя бы подрывает другой, противоположный ряд.
Помните, как у Сэлинджера рассуждает пятнадцатилетний Холден:
…А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца — так сразу подумаешь: хорошо, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтобы с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но это редко бывает.
Это редко бывает, Холден прав, но еще реже бывает, что, если даже случилось такое и ты захотел позвонить писателю, ты услышишь тот самый голос, который хотел услышать. И если ты с этим человеком когда-нибудь встретишься, то еще неизвестно, захочешь ли подружиться. Пока Аполлон не требует поэта, поэт бывает сущим чудовищем. И даже существует такое мнение, что это закономерность и необходимость и чуть ли даже не залог таланта, уж во всяком случае непременное следствие. И что чем выше и значительней творчество, тем дальше в авторе личность творца отстоит от личности человека.
Не дай-то Бог, чтобы все это было так!
Я не верю в талант как способность сокрытия и трансформации и не верю в творчество как искупление жизни. Я не знаю, чем искупается жизнь, быть может, ничем, но только не творчеством. Острота чувств, чистота помыслов, доброта, ум и, главное, совесть не могут рождаться лишь в акте творчества и жить лишь в воображаемом мире. Они исходно должны существовать в человеке, до того, как он сел за письменный стол. Так я хочу и так я верю.
И если я прочел и полюбил какую-то книгу, что означает — полюбил ее автора, то есть тот его образ, который возник у меня при чтении, то я уверен, что полюбил бы его и в жизни, захотел бы, чтоб он стал моим лучшим другом и чтобы я мог ему позвонить, когда захочу. А если бы я разочаровался после этого, то это бы значило, что я плохо читал.
Грант Матевосян был именно тот писатель, которому я хотел позвонить.
И вот ты сидишь передо мной, Грант, и я рад и благодарен тебе бесконечно и, что бы ни было впредь, буду всегда благодарен. Ты, сам не зная того, поддержал меня в очень трудный момент, потому что, видишь ли, Грант, одно дело верить, другое — видеть и знать…
4
Нас зовут в гостиную, мы переходим, я сажусь на тахту за журнальный столик, и с этого момента все мое зрение и все внимание ограничены узким конусом высвечиваемого пространства, куда вмещается лишь этот столик — и Грант, сидящий напротив. Больше я ничего не вижу, ни размеров комнаты, ни обстановки, ни сколько окон, ни что на стенах. Гранту дали в руки кофейную мельницу (в Ереване у всех — только ручные), он мелет кофе и задает мне первый серьезный вопрос: чем я занимаюсь, кто по профессии. Что мне сказать? Я не знаю, насколько ему это важно, скорее всего простая вежливость да еще — уточнение координат, чтоб яснее видеть, к кому обращаешься. Но мне-то, мне-то как раз это важно безумно! И не только вообще, как суть дела, но еще и потому, что Грант Матевосян — это, если быть до конца откровенным, тот единственный человек, к которому я ехал из Москвы в Армению, я — подлинный, я — настоящий, а не тот, за кого я себя выдаю. И вот я сижу перед ним и молчу. Что мне сказать?