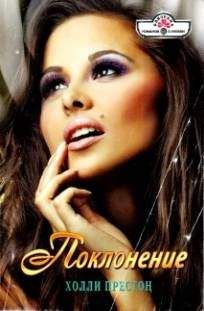Иван Зорин - Дом
Дом ходил ходуном. Стояли только лифты, которыми перестали пользоваться. Повсюду устраивали бег на месте, едва не обвалив потолки, до отвращения занимались любовью. Инвалид из третьего подъезда, свалившись с коляски, судорожно дёргал ногами, пока его отец палил в небо из ружья. В часах бешено крутились стрелки, то и дело выскакивала кукушка, а в аквариумах, как заведённые, плавали золотистые рыбки. Казалось, тени сломя голову убегали от предметов, в шкафах за дребезжавшим, словно при землетрясении, стеклом, беспрерывно качали головой китайские болванчики, а от всадников, прыгавших на обоях, как блохи, рябило в глазах. Дом сошёл с ума! Напрасно Нестор, отдавая свои бессмысленные, короткие приказы, ломал голову, как спасти дом, в который вошла чума, напрасно все, как дятлы, вторили ему, заламывая от отчаяния руки: «Как? Как? Как?» Всё было бесполезно! А через неделю всё кончилось, так же внезапно, как и началось. Будто невидимый человек с дудкой увёл за собой страшную заразу. И все ощутили чудовищную усталость, словно рыли огромный котлован, в который хотели спихнуть дом, и не в силах шевельнуться, лежали, как мёртвые, там, где настигло избавленье, а потом ещё долго не могли заставить себя выйти из дому.
Во время эпидемии исчез Ираклий Голубень. Дверь к нему оказалась запертой изнутри, а когда её сломали, то посреди пустой комнаты обнаружили стоявшую на мольберте картину. Говорили, что Ираклий Голубень, спасаясь от эпидемии, переселился в неё. С тех пор картина ходила по дому. Картина как картина, её покупали и продавали, только она нигде не задерживалась, на неё даже бросались с ножом, как на проникшего в дом убийцу, но чья-то невидимая рука каждый раз перехватывала запястье. И когда убедились, что её нельзя порезать на куски, стали пугать, будто с ней опасно оставаться наедине. «Наедине и с собой оставаться опасно», − глубокомысленно изрек Нестор, повесив её в чулан, где последние годы доживал Савелий Тяхт, и, как зеркало в доме покойника, закрыл драпированной шторой. Для Нестора эта картина, проникшая в восьмивратное здание как лазутчик, вместе с красками и кистью, представлялась кусочком страшной, бесплодной пустыни, которая правит вне дома, норовя его поглотить. Он верил, что она переправляет за канал, за которым вместе с разросшимся кладбищем начинаются её владения, как за Нилом — царство мёртвых, куда рано или поздно попадут все. И он догадывался, что человек с дудкой, уведший за собой заразу, был Ираклий Голубень.
Изольда, как некогда мать Савелия Тяхта, заболела последней, и также не перенесла эпидемии. Высохшая, пожелтевшая, с волосами, как у младенца, она стала легче пушинок, которыми были набиты её подушки. Но, оставаясь верной себе, она умудрилась сделать спектакль даже из смерти, сумев напоследок привлечь внимание, за которым гонялась всю жизнь. На смертном одре её окружали врачи, причастивший её о. Мануил, перешёптывавшиеся подруги по церкви, Архип, то и дело поправлявший одеяло, чтобы скрыть вновь проснувшуюся брезгливость, и она чувствовала, что её доконала не старость, а одиночество. Положив руку на Библию в серебряном окладе, которую держала у изголовья, она сделала знак Нестору наклониться, зашептав на ухо: «А ведь Савелия ты убил, чтобы мне досадить…» Нестор отпрянул, его телячьи глаза превратились в бритвы. «Чтобы с тобой не мучился!» − успела прочитать в них Изольда, но с присущей ей всю жизнь твёрдостью повторила: «Нет, чтобы мне досадить…»
Она легла в могилу к мужьям, с которыми раньше ложилась в постель, чтобы найти, наконец, общий язык, разделив их молчание.
После похорон Нестор, не раздеваясь, бросился на кровать матери, с, казалось, ещё тёплыми подушками, долго смотрел в распахнутое окно на одиноко плывшую луну, а потом, выглянув во двор, увидел подростка, опустившего на землю чемодан и задравшего голову на дом, уставившись на него телячьими глазами. Некоторые взрослеют, когда ровесники уже состарятся, Нестор же, наоборот, состарился, когда ровесники только повзрослели. Эпидемия неусидчивости обострила его интуицию, он жил теперь с постоянным чувством давно виденного, зная наперёд, что случится. Будет ли гроза, утащит ли ворону кружащий над домом ястреб, выйдут ли на ночной промысел близняшки, он видел, как разведётся с женой Антип, а Архип женится на своей невестке, как Антип вместо брата пойдёт в семинарию, и о. Мануил перекрестит его на дорожку: «Променял женилку на кадилку!» И как все волхвы, Нестор нес своё одиночество, свою безмерную печаль, выливая её желчью на страницы домовых книг. Он видел, что жильцы поступают вопреки своим желаниям, подчиняясь какой-то таинственной злой воле, будто железные опилки магниту. Какая-то невидимая сила, точно заламывая руки назад, выстраивает их по своей прихоти, заставляя играть роли, которые раздаёт, как маски на карнавале, и которые снимает только со смертью, как это было с Изольдой, когда вместо мёртвой старухи он вдруг увидел маленькую девочку, надувшую губы из-за сломанной куклы. Кто этот пересмешник? Где скрывается? Или он и есть тот зелёный человечек, которого искал Савелий Тяхт?
Но двое в доме зелёному человечку с его неизбывной тоской были не по зубам. Слепило солнце, в траве, как часы, стрекотали кузнечики, отсчитывая короткое летнее время. Лёжа в траве валетом, они пели на два голоса, заставляя утихнуть чирикавших в кустах воробьёв.
− Я люблю твою обрезанную плоть, бараний нос и глаза навыкате!
− А я люблю твои жаркие чресла, твоё лицо, как луна, и чёрные глаза зелёного цвета.
Они не расставались уже вечность.
− А знаешь, − целя пальцем в шагавшую по забору ворону, сказал Исаак Кац, − когда я был маленьким, то ужасно хотел жениться. На тебе.
− А я жду не дождусь, когда ты, наконец, повзрослеешь, − рассмеялась Молчаливая.
И сцепив в траве руки, они образовали букву «И». Орфографический союз оказался к месту, увидев его с высоты птичьего полёта, Исаак принял его за знак:
− Хочешь, повенчаемся?
Молчаливая крепче сжала его ладонь.
− Мне для этого придётся креститься, но ради тебя я готов заложить свою бессмертную душу.
− Тогда зачем откладывать?
Они поднялись, не разжимая рук, и направились в церковь.
О. Мануил был в притворе, и, выслушав, назначил обряд на другой день, а затем с какой-то радостной суетливостью стал доказывать превосходство своей веры, повёл к алтарю, точно хотел подчеркнуть её преимущества богатым убранством, на ходу рассказывая о супружеской верности и священности брачного союза.
− А вам никогда не хотелось изнасиловать малолетнюю? − вдруг перебил его Исаак.
О. Мануил оторопел.
− А измена? В нас заложено стремление оплодотворить как можно больше женщин. Что же, против природы идти?
О. Мануил повидал многих. В том числе и бунтарей.
− Живи, как знаешь, − сощурившись, указал он на дверь. − Только держись от меня подальше.
− Зачем ты так? − спросила на улице Молчаливая.
− А зачем он так? — ответил Исаак.
На углу, обернувшись на церковь, Молчаливая коротко перекрестилась и, закрыв глаза, прочитала «Отче Наш».
Исаак достал сигарету:
− Уж, казалось бы, чего проще веры в Бога? А и тут набежали посредники, богословы, объясняют, как верить правильно, а как нет! Неужели Господь, создавая Адама и Еву, предполагал во взаимоотношениях с ними такие сложности?
Кровать была узкой, и, заснув, они переплетались руками, ногами, телами, перемешивались, как котята в корзине. Они называли её «котятницей». Была ночь. Уличный фонарь тускло лез к изголовью, сажая на подушку лиловые пятна.
− А, знаешь, всё это напоминает рассказы моей бабки, − приподнявшись на локте, зашептал Исаак. — Она жила в другой семье, воспитывала там внучку, к нам приезжала редко, а на ночь вместо сказки рассказывала одну и ту же историю, повторяя слово в слово, так что я выучил её наизусть. Тебе интересно?
− Всё, что связано с тобой, − ответила Молчаливая.
Исаак улыбнулся.
− Бабка принимала бесстрастный, отрешённый вид, точно рассказывала не нам, а кому-то другому, невидимому, кто находился в комнате, прикрывала глаза, словно читала на обратной стороне век, и начинала тихим, как лесной ручей, голосом:
«Одно из моих воспоминаний — сон. Поднимая вуаль, я ем пресную мацу, которую отец принес из синагоги. На дворе − пурим, когда напиваются так, что не отличают перса от иудея, и отец плеснул нам, детям, красного вина. Весна пришла рано, цвёл миндаль, и в местечке сушили бельё, развесив на верёвках поперёк улицы. Отцовский пиджак на ветру бьёт в стекло, мать на кухне ощипывает курицу, а в углу под часами с кукушкой читает «Шма, Исраэль!» дед.
− У тебя глаза, как мысли раввина, глубокие и загадочные, − говорит мальчик напротив, − а твоя вуаль как молитвенное покрывало… Подаришь мне сердце?
− Бери, их у меня много, − рассмеялась я.