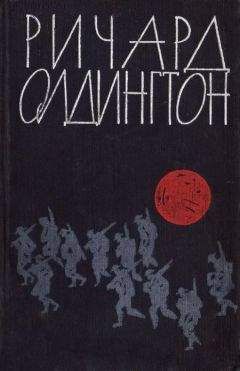Ричард Олдингтон - Дочь полковника
— Бедная Лиззи! — И, продолжая поглаживать вздрагивающий от рыданий затылок, добавила: — Ну скажите же, что случилось? Конечно же что-нибудь можно сделать? А как я вам помогу, если вы мне не расскажете?
Лиззи подняла голову. Хорошо еще, что темно и мисс Джорджи ее не видит — такую зареванную!
— Хозяйка мне отказала, мисс. И чтоб я сегодня же убиралась. Как посуду перемою. — И голова Лиззи вновь рухнула на руки в холодные картофельные очистки.
— Отказала вам! Но почему? И сегодня же? Не понимаю. Я пойду поговорю с мамой.
— Не надо, мисс! Пожалуйста, мисс!
— Но ведь вы же не хотите мне ничего объяснить.
— Про такое вам и знать-то не положено, мисс. А уж прикасаться ко мне и подавно. Я ведь скверная грешница.
И новые потоки слез.
— Ну как вы можете быть скверной грешницей? Просто еще одна мамина истерика. Ну успокойтесь, Лиззи, расскажите мне все по порядку, и я беру маму на себя. Это же буря в стакане воды, я не сомневаюсь.
— И вовсе нет, мисс. Вы бы меня тоже выгнали, если бы знали.
— Ничего подобного! Но если вы не скажете, я сейчас же схожу за мамой.
— Пожалуйста, ну, пожалуйста, мисс, не спрашивайте!
— Я жду.
Лиззи сглотнула.
— С вашего разрешения, мисс, у меня ребенок будет…
— Но вы же не замужем!
— Да, мисс. Я скверная грешница.
И Лиззи вновь неутешно разрыдалась.
Джорджи судорожно прижала ладонь к губам. Нежданное признание взбудоражило ее так, что она почти могла бы потягаться с отчаявшейся Лиззи. Две жившие в ней Джорджи восстали друг на друга. Социальное существо — дочь полковника, благовоспитанная барышня, добровольная жертва нравственного кодекса своего круга — с брезгливостью отстранялось от Лиззи, нечистой, преступницы, уступившей неузаконенным объятиям и понесшей запретный плод. Тяготеющий над ней искусственный кодекс воспрещал благовоспитанной барышне оскверняться прикосновением к блуднице, пусть всего лишь взглядом — так блаженных богов не положено оскорблять зрелищем смерти. Но внезапно эту каменную стену привитых верований и предрассудков начали таранить варварские орды подавляемых инстинктов. В плотной тьме кухоньки, пропитанной тяжелым запахом бесконечной стряпни, Джорджи изведала подлинные чувства. Она ощущала, как колотится ее сердце. Она испытывала почти телесное родство с Лиззи, женскую паническую жалость ко всем попавшим в тиски неумолимого закона продолжения рода. Ревность, зависть, жалость, отвращение, нежность вели в ней отчаянную борьбу. Она пыталась отогнать их, но ее собственная плоть исходила завистью к этой ничтожной замызганной судомойке. Как! Эта щекастая девчонка с глупыми голубыми глазищами и белобрысыми патлами показалась мужчине желанной и понесла! Безнравственно — да, соблазнение, быть может, злоупотребление ее невежеством… и все же ее пожелали! А Джорджи ни один мужчина никогда не желал… Ах, как бы она положила конец неприличным заигрываниям! Да, и даже теперь муштровка взяла бы верх, и она положила бы им конец. Мужчины инстинктивно знали это. Благовоспитанной барышне надлежит сочетаться законным браком или иссохнуть в девстве. О бессилие бунта и ревнивой зависти! Все эти Лиззи продолжают жить, а Джорджи погибают. Она гневно и пристыженно пыталась заглушить внутренний голос, настойчиво нашептывавший, что для Джорджи Смизерс было бы куда лучше сидеть сейчас на месте Лиззи Джадд, опозоренной, напуганной, рыдающей, но зато сполна исполнившей назначение женщины, чем стоять в стороне от нее и быть выше всего этого — быть целомудренной благовоспитанной девицей, которая с негодованием обрывает всякие неприличные поползновения еще до того, как они обретут реальность. Пусть трагедия, но насколько больше в ней жизни, чем в предстоящем ей самой никчемном благопристойном будущем, которому придавали что-то постыдное торопливые, тайно урванные радости Дочерей Альбиона. Она увидела себя как чудовищную аномалию — мирская монахиня против воли, жертва, истерзанная на алтаре великого бога Соблюдения Приличий, никому не нужный товар на рынке рода людского. Знала ли она, что в древнем Вавилоне все это было устроено куда разумнее?
Джорджи наклонилась и нежно провела рукой по волосам Лиззи — обе они знали, что хотя бы на этот миг человеческое начало в ней восторжествовало над благовоспитанностью. Лиззи схватила ее руку и поцеловала.
— Ох, мисс Джорджи, мисс Джорджи! До чего же тяжело, когда все против тебя, а ведь я ничего плохого не думала, я не знала…
Джорджи отняла руку, отпугнутая этим свободным проявлением чувств. Не трогай меня! Я целомудренна, я играю по правилам… И все же она продолжала жалеть Лиззи.
— Но разве это уж так важно, если вы уйдете сейчас, Лиззи? Ведь все равно вам придется уйти очень скоро, когда…
Ложная стыдливость помешала ей докончить «…родится ваш ребенок».
Лиззи, которая почти уже выплакалась, ослабла от слез, но немного успокоилась.
— Нет, важно, мисс! Хозяйка говорила со мной так сердито, а ведь она всегда была очень доброй, учила меня. И дома буду я сидеть на кухне, а мать начнет меня точить, какая я бесстыжая, а отец знай будет дымить трубкой и на меня даже не посмотрит, только дурой обзовет. Это же такой срам, мисс. Отец сейчас не так чтоб очень зол, мисс, только он всегда до того гордился, что я у полковника работаю, и, если меня теперь выгонят, он меня убьет, ну просто убьет.
Лиззи тут немножко преувеличивала: никаких кровавых замыслов против своей дочери мистер Джадд, разумеется, не лелеял. Но Лиззи ощущала себя жертвой, на которую ополчилась вся вселенная.
— И еще, мисс, я-то думала, если останусь тут до своего срока, то и из жалованья отложу, и приданое пошью, а то ведь, как он родится, мне же не управиться…
Внезапно у них над головой резко задребезжал колокольчик черного хода — дринь-дринь-дринь! Джорджи вздрогнула: дребезжание болезненно задело ее нервы.
— Что это?
— Кто-то звонит в заднюю дверь, мисс. Пойду посмотрю.
— Вся заплаканная? Кто-то с ацетиленовым фонарем. Не ходите. Может быть, он уйдет.
Несколько мгновений тишины, и снова, еще пронзительнее и настойчивее — дринь-дринь-дри-инь!!
— Господи! — сказала Джорджи. — Сейчас спустится мама узнать, почему не открывают дверь. Не вставайте, Лиззи. Я сама схожу.
Джорджи отворила заднюю дверь и увидела неясный силуэт мужчины, придерживающего велосипед со слепяще-ярким ацетиленовым фонариком.
— Выключите фонарик! Что вам надо?
— Извините, мисс. Можно я с Лиззи поговорю одну минутку?
— Нет. Она себя плохо чувствует! — И Джорджи уже собралась захлопнуть дверь, но неясный силуэт не отступил.
— Будьте так добры, мисс. Мне с ней надо поговорить. Меня послал мистер Каррингтон, чтобы я с ней поговорил и спросил ее сегодня же вечером.
— Вас послал мистер Каррингтон! Как вас зовут?
— Том Стратт, мисс.
— А зачем мистер Каррингтон вас послал?
— Дело очень важное, мисс. Мне надо спросить Лиззи сегодня же.
— О чем?
— Извините, мисс. Лучше я ей самой скажу.
— Лиззи очень расстроена. Она почему-то плакала, и мне кажется, ей сейчас трудно будет разговаривать даже про поручение мистера Каррингтона.
Том Стратт про себя закипал. Ну до чего же тупоголовыми бывают господа! Отчаявшись, он выпалил:
— Ну, мисс, раз уж вы хотите знать, так мистер Каррингтон строго-настрого велел, чтоб я нынче вечером спросил Лиззи, согласна она пойти за меня или нет.
На миг Джорджи утратила способность говорить и двигаться, но затем схватила Тома Стратта за куртку и втащила его за порог.
— Входите же, входите! Лиззи! Пришел Том Стратт спросить, пойдете ли вы за него замуж. Я так рада, так рада! — Дрожащими пальцами Джорджи зажгла свечу. — Ну вот! Побыстрее поговорите с ним и тут же ложитесь спать. С мамой я все улажу и ужином займусь сама. Спокойной ночи!
И к собственному изумлению и смущению она поцеловала Лиззи в горячую, липкую от слез щеку.
Тридцать секунд спустя Джорджи влетела в тускло освещенную гостиную, где Алвина сидела с «Дейли мейл», по обыкновению прямая как палка, а полковник был погружен в глубокие размышления о некоторых аспектах Афганской кампании.
— Мама!
На нее поднялись глаза не только Алвины, но и полковника: настолько непривычными были раздражение и гнев в голосе Джорджи.
— Что случилось, деточка?
— Как ты могла так жестоко выгнать Лиззи? Это ужасно!
Алвина рассердилась так, словно перед сворой, уже почти догнавшей лису, вдруг выросла изгородь из колючей проволоки.
— Я отказала ей потому, что она опозорилась, и я не желаю терпеть у себя в доме такую тварь.
— Пусть даже опозорилась, но почему мы должны ее наказывать, когда и так все в приходе против нее? Это нечестно, мама!