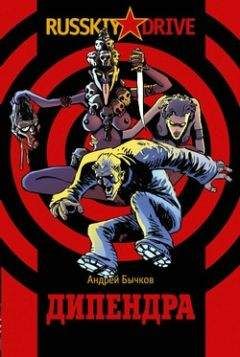Анатолий Найман - Сэр
Маркс. И тогда я начал его читать. И-и-и – скука была невероятная, от времени до времени это было. Не очень замечательный писатель на самом деле… Но о чем мы говорили?
Плеханов и все это… Должен сказать, что о социализме я уже что-то знал. У меня был друг, его фамилия была Рахмилевич. Это был типичный русский еврейский меньшевик. Из Риги. Я его встретил в Лондоне, потому что он жил в доме у какого-то своего богатого кузена, ничем особенным не занимался, ему помогал в его конторе, но главным образом ходил в Британский музей и там читал. И тоже музыку: он очень много знал о музыке. Он был в трех немецких университетах, как все эти русские, а потом он приезжал назад в Ригу, где они сидели на бревнах, бородатые евреи, и объяснял рабочим о Втором Интернационале. Бородатые евреи это делали. Я вижу эту сцену: все эти бревна, на которых сидят, тут какие-то мужики, а там сидят евреи и говорят: так-то, так-то и так-то. Он на меня произвел глубокое впечатление как человек. То есть: от него и понял, что такое, он говорил, социализм. Когда я сказал “такой-то экономист” – “Да. Буржуазный экономист”. Это было автоматически. Так как не социалист, то это буржуазный экономист. Надо всегда прибавить прилагательное, нельзя сказать “экономист”. Какой.
– Отчасти похоже на Кагановича.
– Внешне. По существу – прямо наоборот. От него я понял, что такое социализм, я понял, что такое он говорил – много о музыке, немного о философии.
– Он был старше вас?
– Ой да, куда старше. Лет на тридцать.
– И он произвел впечатление?
– Да. Потому что он был забавный, интересный и замечательный человек. Никогда в жизни ничего не сделал.
Как выяснилось, Ольшанский книгу Берлина читал. Больше того, он ему об этом сказал: в начале осени 1945 года его пригласила в гости Афиногенова, заметная московская дама, вдова известного драматурга, державшая салон, в который допускались иностранцы, по всей видимости, специально для них Лубянкой и затеянный.
Книга Ольшанского только что вышла, шумно обсуждалась, он сделался модным. В тот вечер там был и Берлин: хозяйка подхватила его на приеме, устроенном британским посольством в честь Пристли. Гости Афиногеновой говорили “под микрофон”, все знали, что в стены вмонтированы “жучки”. Догадывался, по-видимому, и Исайя, но внимания на это не обращал: как сотрудник посольства он был в безопасности. Когда известный поэт декларировал, как с трибуны, непорочность партийной мудрости, в том смысле, что состязаться с Партией – так же глупо и бездарно, как с Богом, и еще хуже, потому что Бог ошибается, а коллективное руководство лучших из лучших никогда, Берлин заметил, что в дискуссии всегда может выскочить что-то неожиданное и плодотворное. Возможно, он сказал так, потому что слышать слова вроде этих про Партию и про Бога для человеческой природы невыносимо и, чтобы не вытошнило, надо какой-нибудь звук издать, писк, ржание, а все молчали. Когда же его попросили как представителя западного провокативного мышления не навязывать свободу ошибаться, свободу неправоты, он ответил, что именно эти доводы французского позитивизма приводил Огюст Конт и именно их категорически отвергал Маркс. В ледяной тишине Ольшанский тут и сказал: “Я читал вашу книгу о Марксе”. Реплика нейтральная и исключительно к месту. И Берлин мгновенно оценил ее светское значение: он сказал не то “вы очень любезны”, не то “очень любезно с вашей стороны”. Ольшанскому все это вскоре припомнили.
На “Индивидуальное марксистское сознание”, сразу по выходе в свет принятое с похвалами, хотя на всякий случай и осторожными, обрушились летом 1946 года, сперва на факультете, потом на общеинститутском собрании, на районной партконференции, на городской, на всесоюзной. С августа газеты пристегнули его имя, вместе с еще несколькими, к втоптанным в грязь Ахматовой и
Зощенко. Он стал “лжемарксистом”, “подпевалой ревизионизма”,
“так называемым философом”. “Так называемый философ Ольшанский требует, чтобы мы отказались от единственно верного учения классиков”. Он продолжал ходить в институт, но от лекций его отстранили, а на семинары всегда являлся кто-нибудь с кафедры и безостановочно все за ним записывал. Потом все это вдруг прекратилось: и травля, и записывание, и запрет на лекции.
Его завербовали в секретные сотрудники Министерства государственной безопасности, и первый шаг для этого он сделал сам. Видя, что происходит, и зная, к чему идет, позвонил генералу, под которым служил в СМЕРШе, и получил аудиенцию. Он не столько принял условия договора, сколько выдвинул их сам. Он предложил, что будет заниматься не мелочевкой, не случайными попутчиками в поездах и трамваях, но исключительно людьми своего круга и ранга, наблюдать, а если почувствует необходимость, то и провоцировать их – и сообщать. И опять-таки: то, что он сам сочтет достойным внимания органов. Это не отменяет его немедленной явки по первому их вызову и осведомления обо всем, что их вообще интересует, а ему хоть сколько-нибудь известно, и участия в замыслах и предприятиях, в которых они решат его использовать. Он подчеркнул, что может быть специфически полезен, если дело пойдет об иностранцах, потому что знает языки и имеет репутацию. За все это – никакого вознаграждения, никаких привилегий, продвижения по службе или социальной лестнице, а только – никаких помех в том, что он сам будет делать, писать, говорить, добиваться в своей области и в обществе. И он, и генерал, и стоящие за ним органы знают, что плохого он делать, писать, говорить и добиваться не будет. Генерал подтвердил: знаем.
Поступая так, он не испытал мучительных сомнений, никакого достоевского надрыва, а впоследствии угрызений совести. И сделал это не из шкурнических соображений, и не заставлял себя, как бывает в таких случаях, принять идейные соображения об объективной пользе народу, государству, режиму – ни искренне, ни цинично. И нельзя сказать, что люди были ему вовсе безразличны, и все равно, останется человек, на которого он донес, в Москве в своей квартире или повезут его глодать стланик куда подальше. Он людьми интересовался, но – не жалел. Почему, кстати, ему и нравился так Дружинин, и дружбу с ним он выделял – его не надо было жалеть. Некоторых ценил, любил встречать новых, любил компании, любил болтать и этим был совершенно удовлетворен. Он не считал себя выше других, но не видел никого выше себя. А для себя он хотел только думать так, как он хотел, и жить так, как он хотел. Насколько, разумеется, возможно. Думать – на первом месте, думать ради думания, без системы и без выработки системы, думать, какие бы траектории мысль ни вычерчивала, с чего бы ни начиналась, куда ни приводила. Индивидуальное сознание, хоть марксистское, хоть морфинистское, только и осознавало себя в том, чтобы вот так – думать, и, так думая, само, естественно, додумывалось до личного. Что марксистское, было еще и лучше, потому что, с одной стороны, являлось conditio sine qua non, необсуждаемым, зато и почти незамечаемым условием, вроде бумаги и типографского шрифта , из которых возникало, с другой – выступало заслоном, за которым и происходило свободное думанье, думанье как таковое.
И жить необходимо было исключительно для этого, жить, вообще говоря, и значило только это, а точнее – этим. Но жизнь как обеспечение этого сладостного, всепоглощающего, страстного думания выстраивала собственную, независимую ни от чего структуру, выставляла самостоятельные требования. Равновесие беззаботности и тревог, дел и удовольствий, комфорт, уютность, складывавшиеся годами, пока не перешли в статус вещей первой необходимости, нужны были Ольшанскому уже ради них самих. Он был достаточно тщеславным, был, понятное дело, амбициозным, испытывал удовлетворение, когда удавалось эти качества или, если угодно, слабости тешить, но ничего специально для этого не предпринимал. Только по ходу движения мысли и всей жизни.
Конечно, шпионство за людьми, чувство власти над ними в соединении с регулярными или назначаемыми ему, пусть и не частными, явками по секретным адресам и, как ни крутись, доносами, с которыми он иногда приходил к типам, гм, скажем так, далеким от “его круга и ранга”, расшатывали душевную цельность, расшатывали. И неизбежно следующее за этим крушение чьих-то судеб, чаще всего прямое исчезновение конкретных персонажей “его круга и ранга”, нельзя сказать, чтобы проходило совсем безболезненно. След оставляло иной, вернее в какой-то иной части мозга и внутренностей, чем интриги, схватки, крах и триумф концепций и карьер в институте и в Академии наук, поглубже, почернее – но никаких призраков лорда Банко. Да в основном и не крушением судеб занимались через него кто следует, а замерами температуры и давления умов, слежением за уровнем их брожения, ну и заготовкой сведений впрок, чтобы были под рукой в случае надобности. А если и ломало кому-то кости и перемалывало, то что ж, в конце концов мы здесь, на земле, церковь воинствующая, а воинам свойственно получать раны и погибать. И тебе самому? Что ж, и мне. Придет час, и мне.