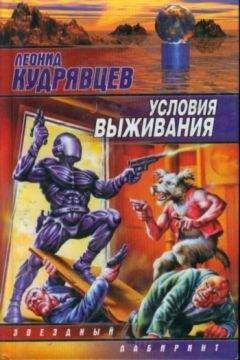Журнал «Новый мир» - Новый мир. № 9, 2002
Опустив глаза, смотреть и смотреть вниз, пока они не устанут. Это единственное, что Надя может сделать для земли, ставшей дном: пока они не устали, смотреть и смотреть, как волна перелистывает истлевающие на глазах страницы книги с буквами, цепляющимися за дно, словно якоря. Глаза погружаются на такую глубину, что их не удерживает схваченная дикорастущей корневой системой память, из-под которой всплывают полустертые впечатления. Какая-то крылатая роза с сердцевиной, битком набитой дворцами, ангелами, водопадами. Под лепестками раскрывается лесная чаща с древовидными папоротниками и гигантскими стрекозами, несущими грозные жала, болотные огоньки на цыпочках перебегают пространство, может, это Всехсвятский маяк покачивается на волнах, может, огоньки плавучей метеостанции. Сквозь розу проходит ось Вселенной с разлитыми по листьям мирами, на них, как на плотах с имуществом бабушки, сплавляется всякая всячина: могилы предков, венчальные свечи, голубиные гнезда, фотографии мужчин в рыбацких фартуках, тянущих сети, окованный медью ларь и книга, которую Надя однажды видела в руках матери… Знания в ней преподаны через букву, одна цела, другая закатилась во тьму, как притопленный бакен, бумажная плесень встает, как зарево, над каждой страницей, слова перебрасываются знакомыми буквами, как цветы семенами с соседних куртин. Страницы слиплись и превратились в волнообразные пласты какой-то неведомой породы. Из-под панцирных створок вдруг блеснет краткое сказание о принце, ходившем по ночам на могилу героя и высаживающем на ней маргаритки, о светлом мученике, нагом и больном, сидящем в темнице. Тьма разлившейся воды обрамляла эту историю.
5
Неподвижность деревьев в сумерках
Шура в молодости никогда не писала писем и не получала их, поэтому она не представляла себе истинных масштабов параллельного потока жизни, заряженного энергией разлуки, — в деревню письма приходили редко, — но, когда (в год рождения Нади) по соседству с Белой Россошью в рекордно короткие сроки вырос небольшой ПГТ и туберкулезный санаторий на берегу реки, открытки и письма стали долетать сюда большими стаями, и тогда Шура вспомнила о самодельных абажурах, вазах и шкатулках из почтовых открыток, какие она видела сразу после войны в изголодавшейся по домашнему уюту Москве…
Как только Шура перешла работать в новую Калитвинскую школу, она бросила среди детей клич, чтобы они приносили ей ненужные открытки. Первая же изготовленная ею ваза произвела в поселке переполох и обрушила на Шуру целую лавину почтовых открыток.
Ярким ирисом Шура простегивала географию Советского Союза с прилегающими к нему странами социалистического лагеря, с детьми которых стали активно переписываться ее дети, прочным петельным швом соединяя Маточкин Шар с Сахалином, Северный Ледовитый океан с Черным морем, Поволжье с бассейном Оби, Памир с Полесьем, подбирая открытки по теме: пейзаж к пейзажу, город к городу, цветы к цветам, праздник к празднику. Память уходила внутрь, культура оставалась снаружи. Каждый праздник приносил розы, воздушные шары, гербы и флаги, ледяные избушки, странствующих Дедов Морозов, виды Южного берега Крыма и Кавказских Минвод, подбоченившиеся кукурузные початки в алой косынке, ковры-самолеты, летящие сквозь климатические и часовые пояса. Прошел год — и в октябрьской троице место Сталина занял Ленин, прошло еще два года — и снегурки с мишками пересели в космические ракеты, прошло еще три года — и кудесница полей исчезла с веселой картинки.
Само время дышало спекшейся розой в сообщающихся сосудах ледяных избушек. То, что было написано чернилами на открытках, поглотили васильки и маки. За спиной Деда Мороза с ярмарочным мешком, например, дрожащим почерком бабушки Пани было выведено: «Дежа! Внучка! Приезжай повидаться со мною, старая совсем стала…» Шура зашила слова свекрови суровым ирисом. А ее дети делали уроки и читали книги каждый под своим абажуром…
В 1934 году ИЗОГИЗ выпустил почтовые фотокарточки героев-полярников, и их мужественные лица, подбитые двадцать третьим февраля, украсили навесной фонарик над письменным столом Германа. Отто Шмидт с пронзительными глазами и черной бородой, сшитый с летчиком Ляпидевским в кожанке и белой фуражке с гербом, сшитый с летчиком Кастанаевым в летном шлеме, сшитый с немолодым уже Фабио Фарихом в костюме и галстуке, сшитый с Леваневским в шапке-ушанке, сшитый с Молоковым в меховом тулупе, сшитый с Отто Шмидтом, водили хоровод вокруг лампочки, и Герман, то и дело отвлекаясь от уроков, разглядывал суровые мужские лица, снятые в контрастном свете, — с едва наметившейся улыбкой на губах, отретушированные лики героев. Весной — летом 1934 года только и разговоров было что о знаменитой льдине, в школах каждый день вывешивали сводки о состоянии льда, сколько народа уже вывезено на Большую землю (в числе первых спасенных была маленькая девочка Карина), сколько полетов к льдине совершил каждый из летчиков. Но с той героической поры проехало много снегурок на тройке с колокольчиками, теперешние учащиеся путали Отто Юльевича с лейтенантом Шмидтом — липовым отцом Остапа Бендера, льдина, когда-то национализированная государством, скорее всего растаяла, и летчикам уже не поклоняются, как Перуну и Даждь-богу, поверх суровых лиц Молокова и Ляпидевского наклеили лица Столярова и Урбанского. Но лицам последних все-таки чего-то не хватало, хоть они здорово верили в предлагаемые обстоятельства, чтобы летчики и играющие их артисты могли беспрепятственно ходить друг к другу в гости через реку времени.
В спортивный зал из окон льются осенние солнечные лучи. Герман скользит взглядом по шеренге напротив. Там стоит его сестра Надя, наэлектризованная временем до корней волос. Волна жгучего времени перебегает от самой невысокой девочки в Надином классе и до альбиноса Кости, который, стоя сзади в строю, с бессмысленной ухмылкой водит мизинцем по бессильно повисшей белой руке Нади. В глазах детей плавает огненная тьма, разламывающая породу, вооружающаяся чем попало и крушащая все на своем пути. От руки к руке перебегает время по часикам, все часы стучат вразнобой, как ни сверяй его по Кремлю. Глаза и губы парят в живом потоке осеннего света, перелетая, как маска, с лица на лицо, то здесь, то там вспыхивает бессмысленная улыбка, подавленный смешок. Наваждение. Душная молодость. Брачующиеся аисты поют дуэтом. Гоголь распускает веером хвост и распушает перья. Поднимают и опускают хохолки, трясут рогами, крутятся на ветке, как пропеллер, трубят, ревут, оставляют пахучие метки. Что естественно, то не безобразно. Но правда в том, что все это неестественно — кипенно-белые воротнички, остроносые туфли, бензиновая зажигалка в накладном кармане вельветовой куртки. Лишь тьма упадет на поселок, все становятся косматыми, как отец, когда он горячим шепотом просит открыть ему запертую дверь спальни, обманутый дружелюбным обращением матери за ужином. Открой, открой, ну открой же. Трубный шепот просачивается через щели и бродит по комнате. Сон Германа вспорот, зарезан, как сон Дункана, этим кипящим шепотом, трубным ревом. Сам он ничего не может предпринять, беспомощный, толкает крепко спящую на соседней кровати за ширмой Надю. Надя вскакивает и кричит звонким голосом: «Папка, иди спать!» Большое животное разражается тяжелым вздохом, тяжело переваливаясь, уползает в свою берлогу, в чулан, который отец давным-давно превратил в свое жилище. Надя, обернувшись к стене, снова крепко засыпает, ей все нипочем; маму в ее спальне сотрясает дрожь отвращения; Герман не может заснуть до утра.
Директор с мягкими добрыми щеками и ясными, как у младенца, глазами продолжает речь. Его часы безнадежно отстают. Ему кажется, что в партизанских лесах еще живут призраки партизан, а между тем — там прорублено много просек и не осталось даже следов партизанских кострищ. Фаянсовая посуда теперь пользуется ббольшим спросом, чем солдатская железная каска с двумя молниями у виска. У всех начальников часы отстают, а у их подчиненных идут вперед. Что касается детей, они все уже в завтрашнем дне. Директор бубнит невнятное: Сбор макулатуры, подойти с ответственностью, переработка бумаги — под нож пойдут вчерашние газеты и обернутся завтрашними новостями. Старые газеты, списанные книги…
Учитель химии Михал Михалыч Батаганов, стоящий рядом с матерью Германа, нежно наклонясь к ее уху, шепотом продолжает: этикетки, спичечные коробки, ценники… Косой луч солнца, в котором размагничиваются часовые механизмы и пыльные пчелы засыпают в полете, выхватывает склоненные друг к другу лица. Страус и его подруга тычут клювами в песок… Автобусные билетики, продолжает мама, елочные клоуны… В глазах обоих светится смех, отбрасывающий тень на лицо стоящей в шеренге напротив учительницы биологии Эльвиры Евгеньевны, жены Михал Михалыча, чернявой, с острым некрасивым страдальческим лицом. Она — известный ленинградский биолог, заведовала кафедрой в институте, пока не случилась какая-то история с сыном, и они вынуждены были переехать в поселок. Чем ослепительней блузки у Александры Петровны, тем более мятой и неряшливой выглядит манишка Эльвиры Евгеньевны. На рукаве пиджака — жирное пятно. Михал Михалыч мог бы удалить его с помощью экстракции: надо смочить ватку бензином и протереть несколько раз — тогда жир перейдет в раствор. Но Михал Михалыч сам-то как голубь-доминант, который затрачивает на чистку своих перьев не менее часа, красив и опрятен, а голубь, которого клюют, быстро опускается, ходит с запачканным хвостом, грязными перьями, вид у него, как у больного, на него нацеливаются вороны… Картонки из-под гербария, свадебные веночки, посмеиваясь в бороду, шепчет Михал Михалыч… Партизанские листовки, объяснительные записки, прикрыв губы пальцами, отзывается мама. На губах у нее тлеет такая же бессмысленная блаженная улыбка, как у Кости, щекочущего пальцем локоть ее дочери Нади. Это игра такая. Герман видит, как мамино лицо все больше молодеет в потоке осеннего света, лицо Эльвиры темнеет, она старается не смотреть на тех двоих, шепчущихся напротив… Письма, написанные растворенным в воде крахмалом и йодом, хроматографические трубки, свистящим шепотом продолжает учитель химии… Законы двенадцати таблиц, кодексы Юстиниана, отвечает учительница истории. Если несколько кукурузных палочек положить в банку, куда заранее капнуть одеколона, а потом закрыть их, то через десять минут, открыв крышку, уже не почувствуешь запаха: его поглотило пористое вещество палочек. Это явление называется абсорбцией. Даже самый разочарованный ум может абсорбироваться в шум пористой крови, осенний луч, полет стелющихся над землей ласточек, предвещающих грозу.