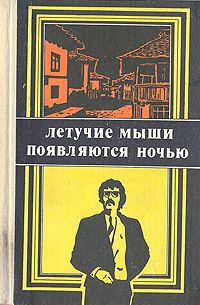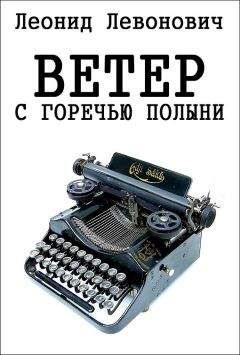Анатолий Байбородин - Не родит сокола сова
— Я уж, верите, не верите, один раз до того дошла, что налила в бутылку керосину, собралась, думаю, подожгу винополку…
— Ну и посадили бы в кутузку, — фыркнул отец. – И чего бы добилась?!
Алексей засмеялся, вспомнив потеху:
– Меня Марина как-то затащила в театр оперный. «Молодую гвардию» казали. И вот Олег Кошевой поет – Алексей, вскрылив руками, густо пропел: – «Налей мне, мама, керосина, фашистский штаб пойду я подожгу…»
— Фашистский штаб и есть – виноплока клятая… Сожгла бы, да глянула на ребят, жалко стало, не охота сиротить, сама в сиротах мыкалась. А то бы спалила. Прямо какое-то помрачение нашло. Да ить заново б отстроили, опять заторговали. Вот продуктов добрых нету, а водки хошь залейся.
— Помнишь, Варуша, как в девках пели? — мать не сводила с подружки заслезившихся глаз. — Чем за зюзю выходить, лучше в девках век прожить.
— Знатьё бы, что так выйдет, дак за версту бы зюзю оббежала. Да ить до войны и в рот не брал эту погань, на дух не переносил, гори она синим полымем. Всё это война, будь она трижды проклята. Извередила мужика… — Варуша не сдержалась и заплакала.
Отец засомневался в такой причине:
— Война… Вон сколь фронтовиков пришло, и никакая холера им не сделалась. Живут, как люди. Выпивают, ежели повод какой, а чтоб так без памяти хлестать эту заразу, Боже упаси. Вон каки хоромины себе отгрохали.
— До того он меня довел своей пьянкой, – промакнув глаза уголком опущенного на плечи, печально-черного платка, продолжила Варуша, – что в городе была, завернула в тамошнюю церквушку. Я же крещенная… Старуха одна присоветовала: дескать, святому Вонифатию Милостивому поставь свечку и так помолись – на зубок помню, – и Варуша, хвастая своей памятью, забубнила, словно стихи, с попомарской монотонностью: – О, Пресвятой Вонифатий, милостивый раб Милосердного Владыки! Услышь, прибегающих к тебе, одержимых пагубным пристрастием к винопитию, и, как в своей земной жизни ты никогда не отказывал в помочи просящим тя, так и теперь избавь несчастного раба Божия Миколая… Помоги ему, Угодниче Божий Вонифатий, когда жажда вина станет жечь его гортань, унистожь его пагубное желание, освежи его уста небесною прохладой, просвети его очи, поставь его на скале веры и надежды…
Устав слушать, как Варуша бубнит, словно ранешний дьчок, отец насмешливо, ведая ответ, спросил:
— Ну и чо, помог тебе Вонифатий? – ведая ответ, насмешливо спросил отец.
— Кого там?! – отмахнулась Варуша. – Как лил эту холеру в глотку ненажорну, так и…
— По вере нашей всё, Варенька… – вздохнула мать, покосившись на хмелеющего отца.
Разговор против выпивки стал уже нешуточным, принял суровый и осудительный характер, но это не мешало честной компании выпивать, достав из-под стола вторую бутылку.
— Пить надо с умом, — рассудил и Алексей, — по праздничкам или дело какое провернуть. Не подмажешь, не поедешь. Кругом бутылка нужна…
— А у нас как привадились, – засмеялся отец. — Пить пока шапка не слетить. С умом-то оно, конешно… Мужик умён – пить волён, мужик глуп пропьет и тулуп, и свой пуп.
— Хошь с умом, хошь без ума, все равно до добра не доведет,— обреченно покачала головой мать. — А праздников ноне через день да кажный день. Новые отмечам, старые престольные не забывам и без бутылочки за стол не садимся. А как раньше баяли: лонясь гуляшки да нонясь гуляшки — пойдешь без рубашки, в однех галяшках. Я, Варуша, третиводни спрашиваю у твоего мужика: что у тебя, Никола, нонесь за праздник? Смеется: дескать, перенесение порток с одного на другой гвоздок. То-то и оно, что перенесение… поднесенье. Так и без последних порток можно остаться.
— А я вот другой раз подумаю, подумаю, дак и тоже бы запила, — неожиданно высказалась Варуша. — Поневоле запьешь от такой жизни. В досельно-то время баба ежели страдала, мучалась, путней жизни не видала, дак хошь верила, что на том свете слезы окупятся, даст ей Бог за страдания вечное блаженство. А теперичи все талдычат, что там ничо нету, а за что тогда и страдать, мучиться. Раз удачи нету, дак хошь выпить, чтоб не видеть эту жизнь растреклятую.
— Не говори так, Варуша, не бери грех на душу, — прошептала и быстро перекрестилась мать.
Варуша, хотя поначалу и упиралась, не садилась за стол: дескать, на минуту забежала, на крестничка глазком глянуть, тем не менее просидела больше часа, выпила наравне со всеми, правда, не дотрагиваясь до городских закусок, занюхивая соленым окуньком. Когда разговор о пьянстве иссяк, почуяла себя лишней среди семейного застолья, среди сокровенных чужих разговоров, которые при ней стали неловкими, разрывались тянучим молчанием. Она еще посидела, затем, пожелав молодым доброго лада, быстренько распрощалась. Подстегнуло ее и то, что отец, уже захмелевший, не сдержался и при ней несколько раз обложил Николу Сёмкина крутыми матерками, не забыв помянуть свою давнишнюю обиду.
После Варуши компания раздвинулась, будто незваная гостья, плоская и костлявая, занимала много места; все вздохнули вольнее и заговорили в голос.
— Тетка Варя совсем дошла, — глядя в окошко, мимо которого косенько, мышью прошмыгнула соседка, вздохнул Алексей.— Видно, на пару с Сёмкиным закладывает.
— Грех тебе, Леша, напраслину возводить на горемышную, — укорила мать сына, — она же крёстная твоя. Можно сказать, вынянчила.
— Сёмкин тоже крёстный, — сурово отозвался Алексей. — Так мне что теперь, молиться на них… Я бы этих пьянчуг собрал в лагеря и заставил бы вкалывать. Лодыри…
— У него и папаша такой же был, — припомнил отец, — ни сохи, ни бороны, ни кобылы вороны, – вроде, деда Кири Шлыкова. Дак у того хошь сынок мозговитый вырос, —Хитрый Митрий.
— Нужны мне сто лет такие крёстные, — продолжал возмущаться Алексей. — Позориться с ними.
— Нужны не нужны, а открещиваться тоже нельзя, —противилась мать. — Что ни говори, свои люди, одного роду-племени.
— А я только с автобуса сошел с Мариной, — Алексей повернулся к отцу, — гляжу, мамочки родны, Сёмкин навстречу. Целоваться лезет, едва отбился от него. Ну и давай мне наговаривать: дескать, в город еду…
— Он уж который год туда собирается, — усмехнулся отец.— Все по пьянке орет: поеду, мол, в город разбираться, всех вас на чисту воду выведу. Особливо, мол, вас, краснобаевских, да вот ишшо Хитрого Митрия. Я ему толкую: дескать, Москва слезам не верит…
— Во, во, во, — закивал головой Алексей, — и мне тоже давай заливать: дескать, у меня в городе важное дело… Не дай Бог притащится.
— О-ой, что мы за народ такой,— поцокала языком мать, — вечно нас мир не берет, так всю жизнь и пластаемся промеж себя. Мало нас еще Бог наказывал. Погодите… Бог-то не Микишка, даст по лбу, будет шишка.
5
Сидели первый вечер чуть не до первых петухов. Все перебрали, все припомнили, порядились насчет свадьбы и будущей жизни молодых, а когда в кухне так смеркло, что не разобрать лиц, зажгли керосиновую лампу, и в тихом, призрачном свете затянули бражную песню:
О-ой, мороз, мороз, д-не морозь меня-а,
О-ой, д-моево-о коня-аа д-белогри-ива-ва-а-а-а…
Молодые подхватили в угоду матери и пели, заметила она потом, как по радио, не по-нашенски. Марина, приобняв жениха, уютно приладив свою кудрявую головку на покатистое Алексеево плечо, выводила звонким, но бесцветным и отстраненным голосом. Алексеев бас не глушил остренького, настырного звона, но когда голоса сливались, то переливисто подрагивали в сумерках, обвиваясь вокруг темно нависающей матицы. Алексей, потный и красный, сидел в белой шелковой майке, по-хозяйки широко расшиперив ноги, нет-нет да и за плечо пригребая к себе невесту.
Ванюшку давно уложили спать, но, свесившись с койки, парнишка слушал, что говорилось на кухне, стараясь постичь ребячьим умом сказанное, и уже вместе с отцом и Алексеем осуждал пьянчугу Сёмкина. Потом он тихонько слез с кровати, прополз на животе до двери в кухню и так, лежа, сквозь щелочку стал подглядывать за гулянкой. Из темной горницы видел все в мутно-желтых, дремотно плавающих пятнах, - огонек в лампе чутко подрагивал, приплясывал и покачивался в лад песне. Мать, подперев отяжелевшую голову ладонью, чуть слышно плакала, за песней это не слышалось, но виделось даже при хилом керосиновом свете, как сыро взблескивали, искрились ее глаза. Она всегда плакала, стоило ей только пригубить рюмочку, точно в душе, на дальней излучине ее, где денно и нощно копятся слезы, городилась сдерживающая их напор запруда, а теперь эта запруда растаяла в вине, и слезы по вымытым руслицам быстро потекли к глазам; и чем бывало веселей кругом, тем тяжелее наваливалась на мать почти беспричинная, не ко времени, тоска, силой своей кручинной выжимая частые слезы; а после этого, как пересохшей земле после дождя, матери сразу легчало, лицо закатно румянилось, расправлялось, и стеснительно пробивалась виноватая, облегченная улыбка, — Ванюшке она казалась похожей на вечернюю зорьку: вот моросит и моросит обложной дождь-сеногной, и кажется, не будет этой мороси ни конца, ни края, отчего занывшей душе хочется забыться, но вдруг однажды под вечер рождается в воздухе затишек и стоит вдумчиво, не колыхаясь, гадая: моросить дальше или уж хватит?.. а потом, уже под самые потемки, на краю пустого, темного озера, в суровости своей похожего на материно лицо, тихонечко запалится узенькое, красноватое зарево,— материна улыбка, и теплым светом зальет озеро, полнеба, суля на завтра ясный день. Вот такая у матери являлась улыбка, но пока до нее было еще далеко-далеко.