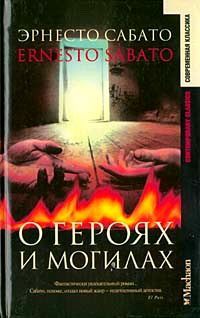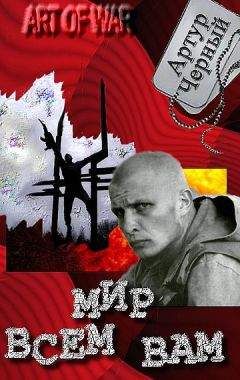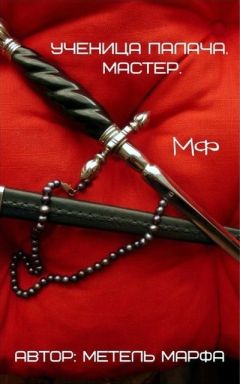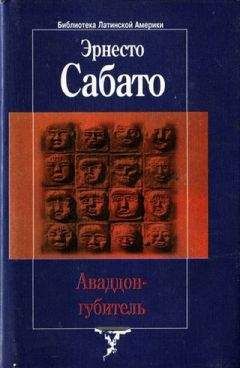Эрнесто Сабато - О героях и могилах
– Это он про полковника Асеведо – понимаешь? Если бы полковника убили в Кебрачо-Эррадо, ему бы не отрубили голову тогда, когда он надеялся увидеть свою жену и дочь.
«Лучше бы меня убили в Кебрачо-Эррадо», – думает полковник Бонифасио Асеведо во время бегства на север – у него-то на уме другие обстоятельства, обстоятельства, которые ему кажутся ужасными (это безнадежное бегство, отчаяние, лишения, полный разгром), но на самом деле они несравненно менее ужасны, чем те, в которых он окажется через двенадцать лет, в тот миг, когда у самого своего дома ощутит на горле лезвие ножа.
Мартин увидел, что Алехандра подходит к полке, и вскрикнул, но она со словами «не будь трусом» достала коробку, сняла крышку и показала ему голову полковника – Мартин прикрыл руками глаза, а она, ставя все на место, сухо засмеялась.
– В Кебрачо-Эррадо, – бормотал старик, кивая.
– Таким образом, – объяснила Алехандра, – опять получается, что я родилась чудом.
Потому что, если бы ее прадедушку прапорщика Селедонио Ольмоса убили в Кебрачо-Эррадо, как его брата и его отца, она бы не родилась и в эту минуту не находилась бы здесь, в этой комнате, вспоминая прошлое. Крикнув в ухо дедушке «расскажи ему про голову» и бросив Мартину, что ей надо уйти, она исчезла прежде, чем он сообразил побежать за нею (возможно, оттого, что был как бы оглушен), и оставила его со стариком, все повторявшим «про голову, вот именно, про голову» и кивавшим, как болванчик. Затем его нижняя челюсть задвигалась сильнее, задрожала, уста промямлили что-то невнятное (возможно, он что-то повторял про себя, как школьники повторяют урок), и он наконец произнес:
– Это масорка, это они бросили голову, швырнули ее через окно в гостиную. Соскочили с коней, сами хохочут, орут от радости, подошли к окну и закричали: «Арбузы, хозяйка! Свеженькие арбузы!» И когда изнутри открыли окно, они забросили в дом окровавленную голову дяди Бонифасио. Лучше бы его тоже убили в Кебрачо-Эррадо, как дядю Панчито и дедушку Патрисио. Я так думаю.
Так думал и полковник Лсеведо во время бегства на север по ущелью Умауака со ста семьюдесятью четырьмя товарищами (и одной женщиной), спасаясь от преследователей, оборванный, удрученный, потерпевший поражение, но не ведающий, что проживет еще двенадцать лет на чужбине в ожидании минуты, когда сможет вернуться и увидеть жену и дочь.
– Они кричали «свеженькие арбузы», а то была голова, мой мальчик. И бедняжка Энкарнасьон, когда ее увидела, упала как мертвая и через несколько часов скончалась, не придя в себя. А бедняжка Эсколастика, одиннадцатилетняя девчушка, решилась ума. Вот так.
И, качая головой, он задремал, а Мартин стоял, парализованный тихим, непонятным ужасом, посреди этой темной комнаты, рядом со столетним старцем, с головой полковника Асеведо в коробке, чувствуя, что где-то поблизости бродит сумасшедший. Он подумал: надо бы уйти. Но боязнь встретиться с сумасшедшим мешала ему пошевельнуться. И тогда он себе сказал, что лучше дождаться возвращения Алехандры, что она скоро придет, должна скоро прийти, она же знает, что ему тут с этим стариком делать нечего. У него было ощущение, что мало-помалу его засасывает какой-то кошмар, в котором все нереально и абсурдно. Со стен на него смотрели изображенные Прилидиано Пуэйрредоном [29] господин и дама с высоким гребнем в волосах. Словно бы души воинов, конкистадоров, безумцев, правителей и священников незримо заполняли помещение и тихонько меж собой беседовали: рассказывали истории завоеваний, побед, схваток, гибели от копий и ножей.
– Сто семьдесят пять человек.
Он посмотрел на старика – отвисшая нижняя челюсть, подрагивая, подтверждала: «Сто семьдесят пять человек».
И одна женщина. Но старик этого не знает или не желает знать. Вот все, что осталось от гордого Легиона после восьмисот лиг отступления и разгрома, после двух лет разочарований и многих смертей. Колонна из ста семидесяти пяти несчастных, молчаливых мужчин (и одной женщины), скачущих галопом на север, все дальше на север. Неужели не доберутся? Да есть ли она, страна Боливия, за этим нескончаемым ущельем? Октябрьское солнце жжет нестерпимо, труп генерала разлагается. Ночной холод примораживает гной и сдерживает полчища червей. И снова день и стрельба в арьергарде, и по пятам скачут копейщики Орибе.
Запах, страшный трупный запах от тела генерала.
Голос, поющий
в ночной тишине:
Белая голубка,
летишь ты в дали,
всем расскажи,
что убит Лавалье.
– Орнос их оставил, черт возьми. Сказал «я присоединюсь к армии Паса» [30]. И оставил их, а с ним и команданте Окампо, черт возьми. И Лавалье смотрит, как они уходят с его людьми на восток, только пыль клубится. И мой отец говорил, что у генерала на глазах были слезы, когда он смотрел, как уходят два его эскадрона. Оставалось у него сто семьдесят пять человек.
Старик опять кивнул и задумался, продолжая качать головой.
– Негры Орноса любили, крепко любили. И папа в конце концов подружился с Орносом. Орнос приезжал сюда, в усадьбу, они пили мате [31], вспоминали поход.
Он снова забормотал что-то непонятное, челюсть отвисла, старик промямлил что-то про команданте Орноса и полковника Педернеру. Потом умолк. Спит он или думает? А может быть, в нем теплится скрытая, тихая жизнь, которая сродни вечности, – как в ящерицах в течение долгих зимних месяцев.
Педернера думает: двадцать пять лет походов, битв, побед и поражений. Но в те времена мы знали, за что сражаемся. Мы сражались за свободу континента, за Великую Родину. А теперь… Столько крови пролилось на американскую землю, столько рассветов встречали мы в отчаянии, столько слышали воплей братоубийственной войны… Вот сейчас нагрянет Орибе, готовый рубить нам головы, пронзать нас копьями, уничтожать всеми способами. А не он ли сражался рядом со мной в Андской армии? Свирепый, жестокий генерал Орибе. Где же правда? Какое прекрасное было время! Как горделиво красовался Лавалье в своем мундире майора гренадеров, когда мы входили в Лиму! Тогда все было понятней, все было красиво, как наши мундиры…
Он закашлялся, казалось, вот-вот уснет, но внезапно снова заговорил:
– Потому что про Лавалье, сынок, можно говорить все что угодно, но ни один порядочный человек не станет отрицать его честность, истинное мужество, рыцарский дух, бескорыстие. Да, ни один.
Я дрался в ста пяти битвах за свободу этого континента. Я сражался на земле Чили под командованием генерала Сан-Мартина [32], и в Перу под началом генерала Боливара. И еще я воевал против имперских войск на бразильской территории. И потом, в эти два злополучных года, прошел в боях всю нашу бедную родину вдоль и поперек. Возможно, я совершал непоправимые ошибки, и худшая из них – это расстрел Доррего [33]. Но кто владеет истиной? Ничего я не знаю кроме того, что эта жестокая земля – моя земля и что здесь мне суждено было сражаться и погибнуть. Труп мой разлагается на моем боевом коне, и это все, что я знаю.
– Да, ни один, – сказал старик, кашляя и перхая, как бы задумавшись и со слезящимися глазами повторяя «да, ни один», все кивая головой, словно соглашаясь с невидимым собеседником.
Задумавшись и со слезящимися глазами. Всматриваясь в свою реальность, в единственную реальность.
Реальность, которая строилась по удивительнейшим законам.
– Дело было в 1832-м, как рассказывал мой отец, именно так. И должен тебе сказать, что в истории с улучшением породы скота были и «за» и «против». Затеял все это англичанин Миллер со своим знаменитым быком Таркино, в году 1830-м. Вот именно, со знаменитым Таркино в усадьбе «Ла Каледония».
Старик снова захихикал и закашлял, неловко вытирая платком слезящиеся глаза.
– О чем я тебе говорил?
– О породистых быках.
– Вот-вот, о быках.
Он с минуту покашлял, покивал, затем продолжил:
– Семья Эваристо так нам никогда и не простила. Никогда. Даже когда отрубили голову моему дяде. В общем, наша семья разделилась из-за этого тирана. Никто тогда не мог спать спокойно. И можешь себе представить, какой страх был у нас в доме – когда папа вступил в Легион, мать ведь осталась одна. И дедушка мой дон Патрисио тоже туда отправился – я тебе рассказывал историю дона Патрисио? – и мой двоюродный дед Бонифасио, и дядя Панчито. Так что в усадьбе остался только дядя Сатурнино, самый младший, совсем мальчик. А то одни женщины. Одни женщины.
Он снова провел платком по слезящимся глазам, покачал головою и стал как будто засыпать. Но вдруг сказал: