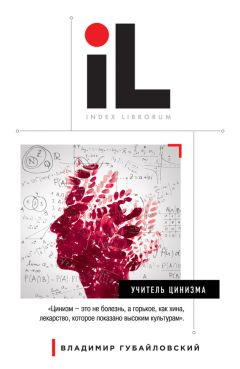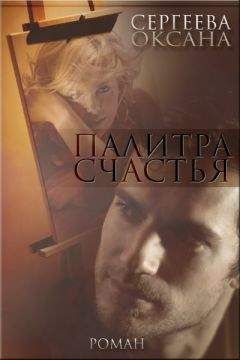Эрленд Лу - Допплер
Угольком я набрасываю на столбе контур будущего изображения. Снизу — фундамент на пару метров, он потом уйдет в землю. Следовательно, торчать будет примерно полуметровый цоколь, а на нем покоиться двухметровое яйцо — на самом деле ритмическое, но чтоб это понять, надо было очень близко знать моего отца, а у него таких друзей закадычных, как я уже устал повторять, ни одного нет. Другими словами, задумку мою никто не поймет, и случайный прохожий примет яйцо за обыкновенное. Не беда. На макушке яйца будет сидеть мой отец, подтянув ноги к подбородку и раскинув руки, а на голове у отца помещусь я сам, на велосипеде. Это будет красиво. У меня на голове, в свою очередь, встанет — мордой к городу — Бонго. Он заслужил это тем, что приволок тяжеленное дерево к палатке. Хотя место в композиции было ему гарантировано все равно. Просто за то, что он Бонго. Но коль скоро он в буквальном смысле слова вложил часть себя в транспортировку тотемного столба, то увековечение его в тотеме из возможности превращается в неизбежность.
Два метра основания плюс полметра цоколя плюс два метра яйца плюс четыре метра отца и два меня на велосипеде и сколько-то Бонго. Мы говорим о колонне не менее одиннадцати метров высотой, из них девять над землей. За работу!
Оттого что тотемный столб я делаю первый раз, мне трудно реально оценить, сколько времени на это уйдет. Поначалу я думал: несколько дней, в худшем случае — пара недель, но время идет, срок отодвигается, и теперь я понимаю, что на колонну уйдет и зима, и весна в придачу. На это время самыми надежными моими товарищами становятся топоры из Маридалена. Большой я использую для грубой работы, а маленький — для деликатной доводки. Скоро мне понадобятся стамеска, напильник и, естественно, некоторое количество наждачной бумаги. От Бонго в работе никакого проку. Пока я вкалываю, он как неприкаянный слоняется вокруг. Я пробую объяснить ему, что свою лепту он уже внес. Не будь тебя, я бы никогда не смог притащить дерево в лагерь, говорю я. Ты один из важнейших винтиков этого механизма, и не твоя вина, что ты рожден лосем и не умеешь пользоваться орудиями труда. Тут уж поезд ушел, причем много миллионов лет тому назад. Тогда стадо наших общих предков разделилось, и каждый пошел своим путем. Те, кому предстояло стать моими прародителями, свернули в сторону развития мелкой моторики и использования орудий для труда, твои выбрали другую долю. Вот и вся история. Теперь, когда прошло столько времени, легко упрекать их, говорить, что надо было лучше думать, но в тот момент все было не так очевидно. К тому же вы, лоси, вполне, как я понимаю, хорошо приспособились к своему положению. Мне кажется, дела у вас идут неплохо, несмотря на фальстарт. Но Бонго наплевать на мои объяснения. Ему кажется скучным, что я целый день пилю, строгаю и мне не до него. Поэтому он запрыгивает на тотемный столб и спрыгивает с него с театральным залихвачеством. Или бодает деревья, пытаясь их повалить. Бонго, веди себя прилично, увещеваю я. Что тебе скучно, это понятно, но я должен увековечить память моего отца, терпи. Кстати, если ты захочешь почтить память отца или матери, я не стану тебе мешать. И учти, что экстремальные номера, которые ты тут откалываешь, всегда заканчиваются слезами, а то и чем похуже. Ты хоть представляешь себе, сколько лосей ежегодно тонут в болотах и ломают шеи в расщелинах из-за своей такой вот бесшабашности? Тебе дана одна-единственная жизнь, говорю я. Не знаю, во что вы, лоси, верите, но заруби себе на носу: если матушка успела заморочить тебе голову сказками о том, будто есть жизнь после этой, то лучше сразу об этом забудь. Вранье это. Ты живешь здесь и сейчас, и больше тебя никогда не будет. И геройства в том, чтобы сдохнуть по дурости, тоже нет. Ты об этом помни.
За три недели трудов цоколь и яйцо обрели такой вид, что стали похожи на цоколь и яйцо. Не побоюсь этих слов — я собой восхищен. Прямо скажем, плотник из меня никакой, и все-таки я справился. Каждый вечер я падаю без сил и тут же проваливаюсь в сон, успев лишь вдоволь налопаться Бонговой мамаши, которая по-прежнему в прекрасной форме.
Бонго дорос до самостоятельных прогулок. После завтрака он несколько часов бродит вокруг лагеря, но потом уходит и редко когда возвращается до темноты. Чем он там занимается, он мне не докладывает, но я надеюсь — тем же, чем все лоси его возраста, так что беспокоиться мне не о чем. Наверняка и ему тоже хочется иной раз побыть одному, мне ли этого не понимать. К тому же, как всякого Подростка, его раздирают и изнуряют противоречивые желания, вот он и шарахается из крайности в крайность: то грубит, то сюсюкает, то весь нежный и пушистый, а то вдруг сама вульгарность. Ну и конечно, у него возникают всякие вопросы, на которые я не в силах ему ответить. Что я тут могу? Лишь обеспечить ему надежный тыл, дать уверенность в том, что он любим, но дальше-то он сам должен устраиваться в этом мире. Так безжалостно устроена жизнь. Даже лосиная.
Как-то вечером после работы я беру Бонго, и мы идем проведать Дюссельдорфа. Честно говоря, я слегка тревожусь. Когда я видел его в последний раз, на Рождество, он был до того одержим своим макетом, что у меня невольно возник вопрос, здоров ли старик. И не сказать, чтоб я был уверен в положительном ответе. Но когда он открывает дверь, я вижу, что за это время многое изменилось и меня, вероятно, ждут сюрпризы. Его едва можно узнать. Он тщательно одет, подтянут. В доме чистота. Макет боя 1944 года по-прежнему стоит в углу, но столик с лупой и прочими штучками исчез. Дюссельдорф радушно приглашает нас зайти и в мгновение ока сервирует ужин.
— Хорошо выглядишь, — говорю я.
— Спасибо, спасибо, — отвечает Дюссельдорф.
— Как с отцом, закончил? — спрашиваю я.
— С отцом? — переспрашивает он, явно удивляясь, с чего вдруг я вообще вспомнил его отца.
— Ты раскрашивал лицо, — говорю я.
— А, вот ты о чем, — наконец догадывается Дюссельдорф. — Надо же, ты помнишь. Я давно отошел от этого.
Ответ чуточку настораживает меня. Я не специалист по человеческому сознанию, по его тупикам и омутам, но, сдается мне, тут прозвонил звоночек.
— Что случилось? — спрашиваю я.
Дюссельдорф замолкает. Усаживается в антистрессовое кресло и уходит в себя.
— Может, поговорим о чем-нибудь другом? — предлагает он, помолчав. — Знаешь, у меня такое чувство, что это было ужасно давно. Не знаю, насколько интересно сейчас это вспоминать.
— Интересно, — говорю я.
— Ну ладно, — соглашается он. — Раз ты настаиваешь.
Он закрывает глаза и, судя по выражению лица, собирается с мыслями.
— Я все доделал, — начинает он рассказывать. — Нарисовал отцу лицо. Потратил уйму времени, но добился идеального сходства. Можно сказать, это был он сам, один в один. Потом я посадил его в машину и поставил там, на улице.
Дюссельдорф кивает на огромный макет на полу. Я оборачиваюсь и действительно вижу в машине фигурку отца. Фургон въезжает на перекресток, стрелка на часах подходит к двадцати минутам третьего. Свершается то, что свершилось. Сцена, должен сказать, получилась на удивление яркой и выразительной. Я восхищен тем, что Дюссельдорф сумел сделать ради своего отца. Хоть и есть у меня подозрения, что этот подвиг стоил ему рассудка.
— И дальше? — спрашиваю я.
— Ты что имеешь в виду?
— Что ты сделал дальше?
Дюссельдорф мнется, тянет с ответом.
— Я стал прикидывать «за» и «против», — говорит он. — И в конце концов пошел за ружьем. Принес, зарядил, лег на диван, засунул дуло в рот, но не дернул спусковой крючок. Я подумал, что торопиться некуда, взял и включил телевизор, благо пульт лежал так, что я мог переключать каналы, не вынимая дуло изо рта. Так я просмотрел сперва вечерние новости, затем (видно, была пятница) «Всю Норвегию», которую последний раз видел уже не помню сколько лет назад. Ну вот, значит, я лежал, смотрел «Всю Норвегию». Ты ее смотришь?
— Иногда, — ответил я. — Но давно не видел.
— Ее обязательно надо смотреть всем, — заявляет Дюссельдорф.
— Да, славная передача, — соглашаюсь я.
— Она рассказывает о живых людях, — говорит Дюссельдорф. — Таких, как ты, как я.
— И то правда, — поддакиваю я. — Она посвящена жителям Норвегии. А также животным Норвегии. И в первую очередь как раз тому, как гармонично, бок о бок живут в Норвегии люди и животные.
— Главное — в ней есть теплота, — говорит Дюссельдорф. — В передаче. Она душевная.
— Что-то тронуло тебя особенно? — спрашиваю я.
Дюссельдорф молча кивает.
— Две истории, — говорит он. — Одна — о женщине из Финляндии. В молодости она работала там на юге медсестрой. И в первый свой отпуск решила на перекладных добраться куда-то на север — посмотреть церковь, которую в детстве видела в школьном учебнике. Та фотография запала ей в душу. Ну до того церковь ей понравилась, что она загорелась увидеть ее воочию, и вот поехала. Последнюю часть пути ей посоветовали проделать на автобусе, он был пустой, девушка долго ехала совсем одна, но потом вошел парень, норвежец, и попросил разрешения сесть возле нее. Представляешь: автобус совершенно пуст, но он захотел сесть рядом с ней. Слово за слово, короче, до церкви она так и не доехала, а отправилась с этим парнем в Финмарк, они поженились, нарожали детей, в общем, все как полагается. И вот проходит пятьдесят лет, и нам показывают репортаж, как она, на автобусе, едет в ту финскую церковь. И какая это для нее невероятная радость. С ней муж. Они по-прежнему вместе, любят друг друга, а теперь вот она увидела церковь, которой бредила и которая перевернула всю ее жизнь. Не знаю почему, но это потрясло меня, говорит Дюссельдорф, нарочито не замечая, что по его щеке катятся слезинки.